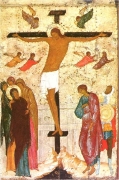ОГЛАВЛЕНИЕ
Часть 1. Лекции протоиерея Артемия Владимирова по курсу "Искусство речи", прочитанные в Свято-Тихоновском Гуманитарном университете ***
От составителей ***
ЛЕКЦИЯ 1. О ДУХОВНОЙ ПРИРОДЕ СЛОВА ***
ЛЕКЦИЯ 2. Афористичность языка Священного Писания ***
ЛЕКЦИЯ 3. Богомыслие как основа и предпосылка проповеди ***
Приложение к лекции 3. От богомыслия к молитве: догматика и нравственность ***
ЛЕКЦИЯ 4. О слове древних ораторов и о слове Господа нашего Иисуса Христа ***
1. Слово древних ораторов ***
1. 1. Docere ***
1. 2. Delectare ***
1. 3. Movere ***
2. Свидетельства о слове Господа нашего Иисуса Христа ***
2. 1. Слово о спасении души ***
2. 2 Слово со властию ***
2.3. Слово, которое слушают с услаждением ***
ЛЕКЦИЯ 5. Три смысла Священного Писания. Три образа понимания его ***
ЛЕКЦИЯ 6. Значение художественного образа в проповедническом искусстве и образность языка Священного Писания ***
1. Сравнение ***
2. Образ как путь к постижению сути ***
3. Два образа митрополита Филарета ***
4. Жанр проповеди-рассказа ***
5. Евангельские образы и притчи о Царствии Небесном ***
6. Домашнее задание по притчам о Царствии Небесном ***
ЛЕКЦИЯ 7. О ТОМ, КАК РОЖДАЕТСЯ В ДУШЕ НАШЕЙ СЛОВО ***
ЛЕКЦИЯ 8. ВНЕШНИЙ ОБЛИК ПРОПОВЕДНИКА, ВЗГЛЯД, ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ ***
ЛЕКЦИЯ 9. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ АУДИТОРИЯМИ СЛУШАТЕЛЕЙ. ОПЫТ ПАСТЫРСКОГО И МИССИОНЕРСКОГО СЛУЖЕНИЯ ***
1. Слово, обращенное к супругам ***
2. Как отвечать скорбящей матери, потерявшей ребенка ***
3. Слово, обращенное к пожилым людям ***
4. Беседа с воинским сословием ***
5. Беседа со скептиками, агностиками, неверующими и нецерковными людьми ***
6. Общение со страждущими ***
7. Беседа с людьми, находящимися в состоянии аффекта ***
8. Общение с душевнобольными людьми ***
9. Общение с заключенными ***
10. Обобщение правил общения в разных аудиториях ***
10.1. В общении с детьми ***
10.2. Подростковая аудитория ***
10.3. Юношеская аудитория ***
10.4. Аудитория пожилых людей ***
ЛЕКЦИЯ 10. Внимание к технике речи как проявление любви к слушателю. артикуляция ***
ЛЕКЦИЯ 11. ОБ ОШИБКАХ РЕЧИ И О ЧИСТОТЕ, ВЫСОТЕ И ПРОСТОТЕ СЛОВА ***
ЛЕКЦИЯ 12. О ГРЕХАХ ЯЗЫКА ***
Приложение I к лекции 12 Размышления на слова: Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших...(Еф. 4, 29) ***
Приложение II к лекции 12 Семицветная радуга человеческого слова (Беседа со студентами в г. Старый Оскол) ***
ЛЕКЦИЯ 13. Техника речи: ИНТОНАЦИЯ И СИЛА ЗВУЧАНИЯ ***
ЛЕКЦИЯ 14. БОГАТСТВО ИНТОНАЦИИ РУССКОЙ СКАЗКИ, БЫЛИ, ПОВЕСТИ И ПОЭЗИИ ***
ЛЕКЦИЯ 15. Техника речи: ТЕМП, ПАУЗА, АКЦЕНТУАЦИЯ ***
Отступление об общих местах, фразах-клише ***
ЛЕКЦИЯ 16. Построение устного выступления (определение вектора рассуждения, выбор слов и выразительных средств) ***
Приложение к лекции 16 Молитва Преподобного Сергия ***
Часть 2. Дополнения к курсу лекций "Искусство речи". Лекции, семинары Крюковой Л.И. ***
ЛЕКЦИЯ 1. Эпистолярный жанр: Сходство устной проповеди и письма (Л.И. Крюкова) ***
1. Тропари о проповеди и письме ***
2. Письмо о письмах ***
3. Письмо и проповедь: схематическое обобщение ***
Приложение № 1 к лекциям 4 (Ч.1), 1 (Ч. 2) Таблица-схема: триединая задача, стоящая перед оратором, проповедником, автором посланий ***
ЛЕКЦИЯ 2. Об особенностях эпистолярного жанра (Л. И. Крюкова) ***
1. Принципы составления писем, выработанные византийской эпистолографией ***
2. История одной переписки ***
Приложение № 2 к лекции 2 (Ч.2) За гранью переписки ***
Приложение № 3 к лекции 16 (Ч.1) Обсуждение слова на заданную тему, составленное одним из студентов. Разбор использования некоторых фигур речи (Крюкова Л.И.) ***
Молитва Преподобного Сергия ***
Разбор студенческого сочинения ***
Работы студентов ***
Приложение № 4 к лекции 2 (ч.1). Пример выполненного домашнего задания. Размышление на тему: Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен (Притч. 18, 11). ***
Приложение № 5 к лекции 6 (ч.1) СОЧИНЕНИЯ СТУДЕНТОВ ***
1. Царство Небесное подобно необыкновенной жемчужине. ***
2. О сокровище ***
3. Слово о смерти ***
Приложение № 6 к лекциям 10-15 (Ч. 1) Пример студенческого сочинения на тему: Размышления о технике речи ***
Из всех живых существ, созданных Творцом, даром слова Бог почтил только человека, выделив его тем самым из всего тварного мира и предоставив ему саму возможность приблизиться к своему Создателю.
Как многое определяет речь в человеке: его ум, воспитанность, культуру, отношение к другим людям, степень его духовности – светлой или темной. Речь помогает человеку выполнить главную его миссию на земле – любовь к Богу и ближнему, и тем самым влияет на всю его судьбу… Речь определяет и степень осознания ответственности человека за свою земную жизнь перед лицом вечности. Как сказал поэт,
Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки
За собой повести.
Речь человека может вдохновлять другого на подвиги – ради любви к Родине, матери, женщине, ребенку, другу. Она может дать крылья, подарить радость, согреть страдающее сердце, а может и отнять последние силы, подтолкнуть к непоправимому шагу. Ответственность человека за словесный дар настолько велика, что даже, как предостерегает Господь, за каждое праздное речение человек ответит перед Всевышним Судией, не говоря уже о бранном, гневливом, жестоком слове. Но многократно усиливается ответственность человека за свое слово, если он в силу выбранной им профессии работает с людьми. Вот почему курс лекций по "Искусству речи", написанный по итогам бесед со студентами Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета его преподавателем, возглавляющим кафедру гомилетики, прот. Артемием Владимировым, обращен не только к студентам этого университета – будущим катехизаторам, миссионерам, но и к педагогам, врачам, да и просто к каждому доброму человеку... Книга Артемия Владимирова, являющегося примером высокого ораторского и проповеднического искусства, рассказывает о высокой миссии слова, потому что оно духовно по сути (ведь оно дано Богом и исходит от Него) и по своему предназначению. Однако автор убеждает своего читателя в том, что слово может быть высоким только в том случае, если оно исходит из уст человека, старающегося приблизиться к Богу, стремящегося изучать Священное Писание и входить в состояние богомыслия; человека, для которого жизнь немыслима без молитвы, без сердечного освоения догматики и восхождения по лестнице христианской нравственности. Книга помогает внимательному читателю глубоко и вдумчиво воспринять Слово Господа нашего Иисуса Христа, так как автор обращает внимание читателя на постижение смыслов Священного Писания (буквального, священно-исторического и самый главного – духовного (или как его еще называют, нравственного, аллегорического). Но мало знать слово Господа. Чтобы оно зазвучало в душе, надо ее очистить, наполнить миром и любовью, самому подняться на духовную высоту – и только после этого нести Божие слово людям.
Большой знаток человеческих душ, тонкий и чуткий душевед, автор книги с особой глубиной пишет об особенностях общения проповедника с различными аудиториями. В поле его внимания и мать, потерявшая ребенка, и пожилые люди, и люди с искалеченной судьбой – заключенные, душевнобольные; и дети, лишь вступающие во взрослую жизнь. Изучая эти лекции, читатель не только осознает, как важно глубоко почувствовать аудиторию, к которой он выйдет через несколько минут, но, что особенно важно, обрести в своем сердце то чувство любви к людям, которое (через слово) поможет ему подобрать нужные именно в этой аудитории слова и интонации, согреть, "растеплить" человеческие сердца и помочь им (людям) раскрыть души к восприятию Божией благодати.
Талантливый мастер слова, отец Артемий уделяет в своей работе большое внимание технике речи, подробно останавливается на тех трудностях, с которыми сталкивается проповедник (тем более недостаточно опытный) в первые минуты своего знакомства с новой аудиторией. Как найти нужные интонации, какие жесты допустимы, а какие нет, как выбрать темп речи, какие привлечь художественные образы и какой выбрать стиль речи, чтобы сердца слушателей откликнулись на твое слово, забились в унисон с твоим собственным сердцем…
Книга состоит из 2 частей. Первая, большая, часть посвящена работам протоиерея Артемия, а вторая часть написана бывшим помощником автора, ассистентом, Крюковой Л.И. (безвременно ушедшей из жизни). Интересны работы студентов, выполненные под руководством о.Артемия и также представленные во 2 части.
Книга написана красивым литературным языком, в ней много тепла и даже мягкого юмора, она очень практична и вместе с тем учит нас творческому отношению к избранному делу. Предоставляя данную работу на суд читателей, коллектив авторов-составителей надеется, что в ней читатель найдет для себя много интересного и полезного, что чтение этой работы доставит ему истинное духовное наслаждение.
Наша дисциплина – искусство речи, ораторское мастерство – является профилирующей для тех, кто сознает себя будущим педагогом и катехизатором. Потому что, если не поставить перед собой задачи овладения русской речью именно с педагогическим, проповедническим прицелом, то, как бы вы ни были совершенны нравственно, духовно, как бы ни были образованны, ваш труд может пропасть даром. Ибо в педагогическом деле самое главное – донести до умов и сердец слушателей то драгоценное содержание, которое вы выносили в сердце. Сейчас довольно много людей, которые имеют истинное православное христианское мировоззрение и правильные понятия о мире и которым есть чем поделиться, но, к сожалению, гораздо меньше тех, кто умеет это делать так, как должно, как этого жаждет и ищет человеческое сердце.
Мы беседуем с вами о слове, о речи, о том, как образуется в душе слово, о правильном отношении к делу словесного служения. И вот, друзья мои, часто прислушиваясь к речи педагогов, риторов, ораторов, проповедников, мы об одном из них говорим: "Его слово так сильно, так убедительно, как сама жизнь", или: "Это слово коснулось глубин души моей, оно меня перевернуло". Или делимся друг с другом: "Вы не были в храме такого-то проповедника? Как он говорит! Ах, забыть невозможно!" А про другого, напротив, скажем: "Ерунда какая-то, только зря время потратил, сидя на этой лекции, – скукотища". Или так: "Говорил, говорил, а о чем – не помню, спалось прекрасно". И вот, размышляя о том и о другом, мы должны прийти к убеждению, что слово выявляет образ жизни говорящего. Весьма заблуждаются те люди, которые думают, что искусство речи сводится к знанию каких-то до поры до времени неведомых риторических приемов. Напрасно некоторые думают, что если они узнают о фигурах и оборотах речи, украсят свою речь всяческими завитушками, то их начнут слушать с упоением на всех перекрестках. Нет. Слово затрагивает самую сущность человеческую, является произведением этой сущности. И в доказательство этого тезиса давайте напишем с вами по-славянски изречение пророка Давида: Отрыгну сердце мое слово благо (Пс. 44, 2). Это значит, что из недр моего сердца вышло благое слово. Слово "отрыгнути" не имеет такого грубого и неприятного смысла, какое иногда придают ему в современном русском языке, оно означает: "извергнуть", "вынести наружу", а в данном случае – "произнести". Сюда же мы можем с вами еще прибавить слова самого Христа: От избытка бо сердца уста глаголют (Мф. 12, 34). От избытка сердца говорят, глаголют уста человеческие. Это значит, что ваше слово, хотите ли вы того или нет, всегда отражает и выражает собою сокрытое в недрах души. Слово является выявлением предельной глубины человеческой личности. Слово в этом смысле более всего рассказывает нам о говорящем. По тому, как он говорит, какие употребляет лексические средства, особенно по тому, каким духом наполнены его слова, проникнута его речь, мы тотчас проникаем в тайну человеческой душе. Слово – лучший обличитель всего того, что не хочется показывать, почему и сказано: "Болтун – находка для шпиона".
Давайте вникнем, каким же образом слово отражает сокровенные глубины человеческой личности. Вникнуть в это можно с помощью святых отцов и Священного Писания. Откуда рождается слово? Слово есть воплощенная мысль. Мы не поспешим согласиться с поэтом, высказавшим: "Мысль изреченная есть ложь". Мысль изреченная – это слово. Но не всякое слово ложно. Итак, слово есть воплощенная мысль. Как понять "воплощенная"? А так понимайте: мысль, будучи по природе своей духовной, невидимой, нетленной, обретает оболочку (одежду), или тело: звуковое – в устной речи и пении или буквенное – в письменах. Уже становится яснее нам, что слова, сыплющиеся как горох с языка или льющиеся из уст человека, теснейшим образом сопряжены с мыслью и с образом мысли. А мысли откуда? Современный школьник сказал бы, что мысли рождаются в голове. И многие писатели, современные или не очень современные, оценивая психологию героев, а то и их подсознание, прибегают к различным образам. Например, могут сказать: "Беспорядочные, не связанные между собой мысли роились в воспаленном мозгу Карлсона". На самом деле все обстоит гораздо интереснее. Похоже, что наша голова, наш мозг, хотя и занимает господствующее место среди членов человеческого тела и является, несомненно, чудным инструментом, через который душа являет себя разумной, мыслящей, действующей, но все-таки не является генератором мысли. Нужно опускаться глубже. Православие указывает нам перстом библейским на сердце. Сердце – вместилище мыслей человека. Мысль рождается именно там. Святые Отцы говорят еще о духе, словесном органе души, который, безусловно, прямо сопряжен с деятельностью сердца. Но что же рождает мысль? Рождает мысль то, что Святые Отцы называют духом человеческим. Этот дух человеческий, так же невидимый и нетленный, как сама мысль, уподобляется святыми отцами первой ипостаси Святой Троицы – Отцу, если в человеке видеть образ Божий. Духу человеческому, этому творческому началу нашей души, свойственно всегда порождать из своего естества мысль, которая единосущна нашему духу. И никогда никто: никакой психолог, никакой языковед, никакой лингвист, нейролингвист – не объяснит и рационально не осмыслит тайну рождения мысли от нашего духа.
Мысль, по слову святых отцов, соприсуща нашему уму, она сосуществует с ним, она и в нем, и как бы отдельна от него. И повторяем, что мысль, которую можно сравнить со второй ипостасью Троицы – предвечным Сыном Божиим, может воплощаться. И является она нам в образе слова. Слово есть мысль воплощенная. И Святые Отцы прямо сравнивают воплощение мысли, ее выход в мир с тайной воплощения предвечного Сына. Но для нас с вами еще важно и то умозрение (которое мы обнаруживаем, вглядываясь в недра собственной природы), что мысль, равная слову, несет в себе силу, дух – духовную силу. Эта сила обымает собою уже как мысль, так и наше слово.
Вот здесь-то мы поведем речь об искусстве слова, ибо с этой силой, более чем с какими бы то ни было украшениями-витийствами, и сопряжена тайна словотворчества, тайна словесного делания, а значит, и тайна восприятия нашего слова слушателем. Если бы наши мысли и слова не обладали никакой силой, если бы они были бездуховными и уподоблялись бы шороху опадающей осенней листвы, колыханию ветра или шуму в проводах, если бы наше слово действительно было произведением какой-то высокоорганизованной материи, как заявляют некоторые пустословы, то оно, слово, никакого бы качественного изменения в этом мире не производило. Прежде всего, в сердцах людей. Оно бы просто слышалось и растворялось в небытии, как снежинки, которые падают с неба и, едва опустившись на ладонь, тотчас исчезают. Но судьба слова совсем иная. Оказывается, что слово, исходя из уст говорящего, неким таинственным семенем падает в сердца человеческие. Не на головку мы воздействуем и не на подсознание, а прямо на сердце. Так вот: метнешь семена, и они падают, падают в борозды хорошо разрыхленной вступительными экзаменами почвы наших будущих богословов, педагогов и катехизаторов.
Удивительное дело: слово, с одной стороны, покидает говорящего и свивает себе гнездышко в душах человеческих, а с другой стороны, оно остается при говорящем. Если бы слово действительно уходило от нас, то, наверное, человек после акта речи чувствовал бы себя словно выжатый лимон, а уж тот, кто прочитал лекцию, мог бы только в изнеможении опуститься на носилки. На самом деле здесь действует какой-то удивительный закон, совершенно не схожий с физическими законами, которые говорят о сохранении энергии. Нет, слово поселяется в сердцах людей и, живя в этих сердцах, производя там некую таинственную сокровенную жизнь, более всего питает (если в добром расположении говорит человек) его собственное сердце. И, как вы видите, это тоже особенная тайна, которая может в определенном смысле соотноситься с тайной воплощения. Как сказано в ирмосе четвертой песни воскресного канона восьмого гласа о Христе: не оставль недра Отча и нашу нищету посетив. Или как мы читаем тропарь пасхальных часов: Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный. Вот такое удивительное свойство человеческого слова.
Мы с вами договорились особенное внимание уделить духовности слова. Откуда этот дух, проникающий собою слово, делающий это слово событием в жизни человека? Между прочим, древние античные поэты, риторы, трибуны знали, что слово – это, прежде всего, действие, действие духовное. Так, например, специалисты по греческому языку слова "поэзия" и "поэт" возводят этимологически к значению "действие, изменение". Поэт – это тот, кто изменяет мир словом. У древних были даже прекрасные легенды, например, об Орфее, который своим голосом свершал чудеса. Но не о легендах нам надо говорить, а о Священном Писании, которое являет эту замечательную способность Божественного Слова: рече и быша, – сказано у царя Давида в Псалтири (Пс. 32, 9) о Слове Божием: "сказал, и стало так". Повеле и создашася (там же), т.е. повелел, и то, что повелел, начало быть, осуществилось. Итак, дух, или, лучше сказать, сила, наполняющая слово, порождена тем же началом нашего естества – духом человеческим.
Давайте теперь подумаем о следующем. Дух-то бывает разный. Бывает дух спокойный, мирный, светлый, истинный. Бывает, что мы ощущаем дух любви, дух правды. А бывает дух льстивый, лукавый, дух нечистый, блудный бывает дух. А бывает слово злое, колючее, колкое, взъерошенное. Бывает слово мрачное, темное, тяжелое. Бывает – пустое, выхолощенное, вялое, бессильное. А бывает, что от слова только оболочка остается, как шелуха от пшеницы после молотьбы. Для нас это самое важное – поразмышлять: что такое святой дух в человеке? Нас интересует с вами слово духовное и педагогическое. Мы хотим непременно сеять разумное, доброе и вечное. Это значит иметь святое слово, т.е. непосредственно Богом освященное. Как заполучить такое слово, о котором можно было бы сказать детским языком: "А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра – чистый изумруд"?
Думаю, что будущий педагог, словесник, катехизатор, прежде чем ему отворить свои уста, прежде чем обратиться со словом к слушателям, конечно, должен креститься. Ибо через таинство крещения происходит, как вы знаете, освящение человеческой природы. Через таинство крещения, с верой воспринятого, мы с вами роднимся с Самим Господом Богом, Словом воплощенным. Через таинство крещения мы с вами приемлем дар Святого Духа, который непосредственным образом касается нашего духа, нашего ума – того творческого словесного органа, которым начинается всякое слово.
Но мало принять эту силу, этот удар, нужно и от себя ведь что-то представить Богу. Что же мы должны от себя представить Ему? Ведь крестится человек не неподготовленный вовсе, а тот, кто уже прошел оглашение. Так его и называют: катехумен – оглашаемый, оглашенный. Мы должны представить от себя Богу православное мировоззрение, миросозерцание христианское. А что это такое – православное мировоззрение? Очевидно, что православное мировоззрение есть усвоение нашим умом (а ум – это глубокая вещь в человеке) всех богооткровенных истин относительно Самого Творца и Создателя нашего, относительно мира, Богом созданного из небытия в шесть дней, и относительно человека – венца творения, относительно места человека в этом мире и относительно цели жизни христианской. Мы должны усвоить богооткровенные, т.е. библейские, содержащиеся в Библии понятия. И все это называется христианским мировоззрением, или миросозерцанием.
А зачем нам все это нужно слушать с точки зрения искусства речи? А затем, что есть теснейшая зависимость между вашим миросозерцанием и тем духом, который живет в вашем сердце. Если вы – христианин по уму, то в вашем уме и сердце живут Богом открытые истины: о Троице, о Богочеловечестве Христа, о троичности человеческой природы, о создании мира из небытия, о приближающемся Страшном суде, об ответе, который дадут и праведные, и неправедные перед престолом Божиим, и о других не менее насущных предметах. Если в вашем сердце все это живет, если все эти истины составляют, так сказать, плоть и кровь вашего духовного естества, то нетрудно догадаться, что этим богооткровенным мыслям, этим догматам истинной веры соприсутствует Святой Дух.
Мы договорились до того, что каждой мысли свойствен дух, сила, на этой мысли почивающая и от рождающего начала исходящая. И если вы так хорошо позаботились, что вычистили ваше мировоззрение, как по книжке "Катехизис в форме вопросов и ответов", и убедились, что по уму вы – истинный христианин, что вы всецело подчинили свой ум Божественной премудрости, то плодом такой вычистки, такой работы умственной, такого труда духовного является дивное утешение: ваши мысли освящаются присутствием Духа Божия, Силой Господней. Эту Силу исповедовать будут все люди, внешние Христу, которые с вами соприкасаются, именно только за согласие ума с истинной верой. Например, они к вам подошли и говорят: "Ктрый час?" Знаете, как студенты говорят между собой: "Ты чё стоишь? Ты чё тут?" А вы им сказали: "Сейчас половина шестого вечера, день клонится к закату". Они говорят: "А ты откуда такой?" А вы отвечаете: "Я с катехизаторского факультета Богословского института. А вы откуда?" И слышите в ответ: "Слушай, а с тобой можно просто рядом постоять? Что-то на душе теплее стало". Вот это все за то Бог дает, что у вас мысли сердца совершенно усвоили библейское мировоззрение. И на этом мировоззрении, как на неких костях, костяке, скелете – плоть и кровь: в награду за эти Божественные истины Дух Господень витает над вами и с вами пребывает.
Отсюда, между прочим, ясна такая вещь: если вы дерзнете (не могу сказать: рискнете) усвоить своему уму хоть одну мысль о Боге, о мире, о человеке, которая не дана была в Откровении, но является мыслью произвольной, человеческой, ложной, то с вами может произойти катастрофа. И она будет, и уже происходит на наших глазах со многими людьми. Какая такая катастрофа? А вот какая: ложные мысли, которые взяты как бы ниоткуда, – не от Бога. А мы знаем: то, что не от Бога, то подсунул нам барабашка. Ложной мысли соприсутствует сам хвостатый и рогатый – дух тьмы.
Таким образом, будучи сосудом драгоценным, в котором пребывает миро благодатное, вы за одну ложную мысль в это же миро подливаете уксус, деготь, чернила. "В бочке меда ложка дегтя". И по учению святых отцов, вот эта ложка дегтя полностью отравляет вино истины, вино духа, и оно становится непотребным для вкушения.
Истина, утверждает святитель Игнатий Кавказский, не терпит лжи. Истина – большая-большая (она же все собой наполняет), истина, сочетанная с маленькой-маленькой ложью, уже престает быть истиной, а становится лжеистиной, призраком истины. А того, кто носит в себе этот призрак истины, делает сосудом лжи и лукавства, а не сосудом Святого Духа. Отсюда, между прочим, вытекают такие простые мысли и выводы. Сейчас можно встретить немало богословов, которые, читая нам умные лекции, скажут: "Дорогие студенты, мы сегодня будем с вами беседовать о духовных завоеваниях протестантизма. У нас в аудитории даже присутствуют два баптиста, которые пришли сегодня поделиться с нами сокровищницею своего сердца. Давайте же подумаем, братья и сестры, о том, что нас объединяет, а не о том, что нас разъединяет". Так вот, каждому из нас должно быть ясно, что если мы принимаем решение духовно объединиться, подружиться, войти в духовный альянс с тем, кого древние называли haereticus – еретиком, то мы, хотим того или нет, вступаем в область лжи, коль скоро это единство не случайное, будничное, земное, не единство доброго и стремящегося помочь человека с тем, кто попал в беду. Мы же не смотрим и не исследуем мировоззрение человека, который протягивает руку и просит у нас хлеба. Но если мы объединяемся на духовной почве, то мы вступаем в общение с духом тьмы, который присутствует там, в сердце haereticus’а, ибо тот не чтит Божией Матери, не почитает Ее Девой. Или он – католик, например, – имеет ложное представление о Духе Святом, в свое мировоззрение включил дьявольскую ложь о том, будто Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына, и прочее, и прочее. И последствия этого будут катастрофические. Они и происходят со всеми, кто произвольно, добровольно отступает от истины православия и размывает Богооткровенную веру человеческими измышлениями, составляющими, собственно, отличительную особенность всех ложных христианских конфессий.
Но мы с вами сейчас не о сравнительном богословии говорим, а об искусстве речи. И я берусь-таки подчеркнуть это утверждение, оттенить в вашем сознании мысль: если вы в душе своей все-таки пригрели такую маленькую ядовитую змейку – какое-то ложное представление, не данное Богом, то вам и Духа Святого в уста дано не будет. За то, что эта ложь (а ее сущность – богохульство) отравляет все ваше естество. Вот, например, известно, что все мы шли в православие, продираясь сквозь какие-то джунгли, пеньки, ежевичные кусты всевозможных мировоззрений и систем. В том числе и те, кто беспорядочно и бессистемно начитался всякой астрологической литературы, полюбил составлять гороскопчики на ближнего своего. Вот такой человек, кажется, уже пришел в православие, уже занялся этой очистительной работой, а все-таки, когда в поле его жизни входит новый человек, испытывает величайший соблазн хотя бы мысленно, хотя бы на скорую руку составить на него гороскопчик: "Ага, он Скорпион, а я – Телец... надо бы свести его с Козерогом". Многие, между прочим, приходят на исповедь и говорят: "Батюшка, вот хочу я или нет, а они сами составляются в моей голове. Так и подмывает узнать: "У вас день рождения, простите, когда?" Ага, в марте. Рыба, рыба, рыба-кит...".
Кто этим не болен, тому смешно. Это хорошо. Но кто переболел астрологией, знает, что вещь эта отнюдь не безобидная. А ведь оказывается, что если вы серьезно в нее погрузились и в сердце своем однажды считали, что небесные светила, их расположение относительно друг друга во многом если не определяют, то подсказывают нам нечто о нравственной жизни личности, если без соотнесенности с этой картой астральных тел вы и шагу ступить не можете, то вы этим резко занижаете планку, которой меряется ангелами личность человеческая. Если вы ее низводите таким образом, если тайны личности в духовной жизни думаете сопрячь с этими-то сферами, то вы уродуете представление о человеке, ограничиваете, выхолащиваете образ Божий, укладываете его в прокрустово ложе человеческих измышлений. Что будет последствием этого? Конечно же, ложное суждение о человеке, ложное представление о нем. Он никогда не простит нам такого представления о его внутренней жизни, потому что мы отсекаем от себя один из важнейших инструментов человеческого общения – наитие, когда сердце-вещун нам подсказывает, что это за человек и чего от него можно ожидать. А рыба или кит, рак или щука – это для меня мало значит. Вот царь Соломон, например, гороскопами не увлекался. Но он был хороший физиономист и наблюдательный психолог. Он, например, написал: Человек нечестивый дерзок лицом своим (Притч. 21, 29). Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его (Притч. 6, 12–14). Мерзость пред Господом дерзко поднимающий глаза (Притч. 27, 20). Не менее метки определения Иисуса Сына Сирахова: Наклонность женщины к блуду узнается по поднятию глаз и век ее (Сир. 26, 11). Или еще колоритнее это звучит по-славянски: Блуд женский в возвышении очес и бровьми ея познан будет. Неудивительно поэтому, что и пророки израильские умели распознавать склонность к блуду не только в отдельных людях, но и во всем народе в целом, обличая его словами: У тебя был лоб блудницы (Иер. 3, 3).
И то, какой дух в человеке живет, зависит, конечно, не от дня и месяца его появления на свет Божий, а от того, каково его свободное произволение, куда оно уклоняется: ко злу или ко благу, какое он имеет мировоззрение и насколько сообразует свою жизнь с этим мировоззрением. Ни один человек не сводим полностью к его мировоззрению, и поэтому Христос призывает всех возгревать в себе Божественную любовь, являющуюся в человеке даром Духа Святого.
Итак, мы поговорили о том, что в теснейшей связи с нашей речью – с искусством речи, с силой нашей речи стоит наш дух и наше мировоззрение, его наполняющее. Слово заимствует от мировоззрения нашего определенные качества. В доброе старое время у нас в школе даже были такие сложные темы уроков: "Связь между мировоззрением и методами писателя".
А теперь давайте обратимся к Библии. Это гораздо надежнее, чем самому размышлять о тайнах слова и речи. Обращаю ваше внимание на книги Ветхого Завета. Давайте попробуем выписать некоторые изречения, которые проливают свет на тайну человеческого слова.
Язык мудрых сообщает добрые знания (Притч. 15, 2). Как это истолковать? Очень просто. Мудрым книжником Иисус Христос называет того человека, который не только знает заповеди, но и исполняет их. Спаситель говорит в Евангелии от Матфея: Всяк книжник, научився Царствию Небесному, подобен есть человеку домовиту, иже износит от сокровища своего новая и ветхая (Мф. 13, 52). Т.е. всякий книжник, научившийся – значит, исполняющий заповеди, подобен домовитому хозяину, износящему из сокровищницы сердца своего новое и ветхое. Исполнивший заповеди христианин из глубин своей совести, своего сердца выносит истины Нового и Ветхого Завета, и выносит их претворенными, оплодотворенными собственной жизнью. А тот, кто заповедь исполнил жизнью своей, тот получил силу заповеди, его душе ведома неизреченная сладость Царствия Небесного, благодать Духа Святого. Так вот, язык мудрых – это язык людей, которые живут по заповедям истинных православных христиан. Этот язык сообщает добрые, благие знания. А благое знание – это, конечно, то, что назидает и освящает душу. Благое знание – это слово о спасении души. Ибо что полезнее всего знать на земле? Конечно, то, что относится к спасению человеческой души.
И противоположное: Уста глупых изрыгают глупость ( Притч. 15, 2). А кто такой глупый? Это же не ругательство какое-то, типа: "Ну, ты псих!" Глупый – это тот, кто не исполняет заповеди, он нерассудительный, и он ничего, кроме благоглупости, пустой болтовни не скажет. Он может своим языком исчерпать знания всей вселенной, но ничего насущного вы от него не получите.
Посмотрим дальше: Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. (Притч. 15, 4). Что такое кроткий язык? Короткий язык? Язык кроткого... Кроткий – это тот, кто поборол страсть гнева и раздражительности. У кого в сердце покой, кротость и мир, у того и язык особенный. Какой? Он уподобляется древу жизни. А в чем особенность древа жизни? Древо жизни было дано первому человеку в раю, дабы он вкушал от его плодов, черпая бессмертие, дабы он наслаждался плодами премудрости, дабы он освящался Духом Святым. Значит, язык кроткого в противоположность языку гневливого доставляет душе существенное благо. Душа слушателя питается, просвещается, назидается, приближается к вечности, вступает в общение с Богом, если она усваивает речи кроткого. Об этом, может быть, говорил преподобный Серафим: Стяжи мир (а мир и кротость весьма близки), и тысячи спасутся вокруг тебя. И не просто вокруг, а те, кто будут слушать слово кроткого.
А необузданный язык – сокрушение духа (Притч. 15, 4). Что такое сокрушение? В данном случае это не славянское: Жертва Богу – дух сокрушен (Пс. 50, 19). Сокрушение духа в данном случае можно понимать как томление души, опустошение ее, горечь сердца, а, наверное, более всего – это разочарование духа, печаль мирская. Язык необузданного. Кто это необузданный? Необузданный – это тот, кто не владеет страстями, кем страсти помыкают, как корабликом стихия морская. Значит, если страстный человек берется за дело проповеди, вступает в словесное общение со слушателями, то он их может заразить своими болезнями. Представляете себе, как опасно? "С кем поведешься, от того и наберешься". И точно, в зависимости от господствующей страсти, владеющей лектором, и студенты будут заражаемы ею. Ужас! Хоть не ходи на лекции.
А какие это бывают страсти? Хорошо еще, если у лектора существует упомянутая страсть раздражительности. Так багровеет, смотрит исподлобья, как мышь на крупу, как джинн из бутылки. Вы это еще претерпите. Разве что искра какая вспыхнет в глазах.
Бывают и более опасные страсти. Например, высокоумие. О высокоумии Священное Писание говорит: Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему (Сир. 13, 1). Гордость, как смола, очерняет всякого. А что такое высокоумие? Высокоумие есть сомнение в Богооткровенном знании, когда человек не принимает библейской истины, считает, что пророки и апостолы что-то недосказали, а о чем-то не так рассказали. Или принимает Библию, но считает, что Церковь понимает ее не так, как должно понимать.
Например, протоиерей Сергий Булгаков в статье "Об Иуде", напечатанной в "Вестнике Российского христианско-демократического движения", пишет: "Апостолы примитивно и огрубленно понимали и представляли Иуду. Иуда был жертвой люциферианской любви ко Христу". Это формулировка почти дословная. Я не клевещу на почтенного писателя, но, оказывается, что эта "люциферианская" любовь ко Христу толкала Иуду на предательство. И при этом, предавая Христа, Иуда думал угодить Господу своему…
Таким образом, высокоумие заключается в том, чтобы слова Священного Писания понимать не в соответствии со Святыми Отцами. Например, Христос говорит о геенне огненной, где червь их не умирает и огонь не угасает (Мк. 9, 48). Эти слова есть догматическая истина о вещественности адских мучений. И эти адские мучения будут не просто терзать сердце укорами совести. Когда Христос говорит, что там будет плач и скрежет зубов (Мф. 24, 51), то эти слова указывают, что самое тело нераскаянного грешника будет вечно страдать, хотя не будет уничтожаемо. И об этом говорят все Святые Отцы, включая и наших русских подвижников благочестия: святитель Димитрий Ростовский, святой Игнатий Кавказский, преподобный Серафим Саровский.
А вот, скажем, появился богослов, который написал книгу "Догматическое богословие". Молодой иеромонах, талантливый, знающий, владеющий в совершенстве греческим языком. И в его книге в соответствующем разделе написано, что представление о вещественности адских мучений – это мрачное средневековье, а на самом деле о них, мол, можно упоминать только в смысле нравственных терзаний, но не более того. Это есть прямое противоречие Святым Отцам, положительному учению Церкви.
Еще процитируем из Библии: Уста мудрых распространяют знание, а сердце глупых не так (Притч. 15, 7). "Уста мудрых распространяют знание". Что это означает? Думается, что лучше всего сличить это изречение из Ветхого Завета со словами святого апостола Павла: Мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь... Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе (2 Кор. 2, 15-17). И еще, строкой выше: Благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте (2 Кор. 2,14). [Выделено лектором – прот. А. В.]. Мы распространяем собою познание о Христе, как фимиам. Человек, исполнивший заповеди и говорящий, распространяет знание в том смысле, что его слово, будучи духовным, проникает собою человеческие сердца и заквашивает эти сердца духом покаяния, веры, страха Божия, истинной любви к Создателю. Т.е. слово благочестивого имеет удивительную нравственную силу воздействия. Он уже ушел с ваших глаз, удалился вон, как царь Гвидон, а слово осталось, потому что, если слово подкреплено делом, оно имеет силу Духа. И Дух Святой посредством слова, приходя в душу человека, распространяет эту душу, как бы раскрывает познавательные способности сердца. Сердце познает то, чего раньше не слышало, не чувствовало, не видело. Оно восходит непонятным образом по ступеням Богопознания, ради слова благочестивого и соприсущей этому слову силы.
Сказано: ...А сердце глупых не так, – если человек не исполняет заповеди. А исполнение всех заповедей-то, между прочим, выявлено в молитве. Если ты молишься духом, то ты исполняешь заповеди. А если ты не молишься, а только думаешь думу свою, то ты их не исполняешь, хотя и считаешься воспитанным человеком. Так вот, глупый – это тот, кто не молится, а только думает или читает. Сердце глупых не так. И язык глупых не так. Если человек не молится, а только думает или говорит, то его слово не имеет внутренней жизни, оно остается, я бы сказал, усеченным, холостым, куцым. Это слово воздействует преимущественно на голову слушателей. Головка немножко припухла после лекции, а слова-то всё иностранные, слова-то всё заковыристые. Например: "Дорогие мои слушатели, сегодня у нас речь пойдет с вами о главной гносеологической проблеме современного сознания" (а вам уже нехорошо от этого). Вот вы и пыжитесь, пыжитесь, в эту терминологию как-то вникли, у вас в сознании возникает уже что-то имманентное, что-то трансцендентное. Потом удалился лектор, дверью хлоп, портфель подмышку, а у вас отрыжка. То есть ваша душа нежная (она же не всякой пищей может питаться!) сразу: "Фу-у-у", – и освободилась от этого знания головного, и вы снова стали милой девочкой из Коломны, приехавшей в наш институт учиться богословию. На следующем уроке опять помучаетесь немножко: "Речь пойдет о главных субстанциях, акцидентах", – и т.д. Помоги, Господи, всем нам! Это я никого не осуждаю, кроме самого себя, потому что у нас-то речь идет, прежде всего, о слове, о духе, а не о дисциплине. Нужно разбираться в философской терминологии, безусловно, чтобы не чувствовать себя папуасом или индейцем на какой-то международной конференции, нужно уметь говорить с современными людьми и не таким уж примитивным языком, но откровение для нашей души в этом едва ли содержится.
В качестве домашнего задания предлагаем вам почитать 18-ю главу книги Притч и поразмышлять письменно, например, над такими словами: Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен (Притч. 18, 11). Как это понять? Почему имя Господа с башней сравнивается? И на следующем занятии мы побеседуем о 18-й главе Книги Притчей поподробнее.
В прошлый раз мы говорили о духовной природе слова, о том, как от духа, вложенного Богом в человека, рождается мысль, которая затем воплощается в слово, обладающее особой духовной силой, от духа человеческого исходящей. Говоря о духе, воплощающейся в слове мысли и о его духовной силе, мы прикоснулись к тайне Пресвятой Троицы, позволив себе, следуя святоотеческим толкованиям, увидеть отражение Божие, отражение трех Божественных ипостасей в духовном устроении человека. Говорили о слове как о даре Божием и о том, как духовная сила, его наполняющая, передается, подобно аромату, от сердца к сердцу. И если человек благочестив, то, как мы помним, слово в его устах становится подобно благоуханию Христову, фимиаму Богу, освящающему и преображающему всех слушающих это слово. Мы пытались размышлять о даре слова по притчам царя Соломона и даже умудрились дать вам задание по восемнадцатой главе Притчей Соломоновых, о которой мы сегодня еще поговорим.
Тема сегодняшней лекции: афористичность языка Священного Писания.
Афоризм (от греческого aphorismos) – это, согласно энциклопедическому словарю, изречение, выражающее в лаконичной форме обобщенную, законченную мысль. Вот такие законченные обобщенные мысли о слове, взятые из Священного Писания, и будут предметом нашего внимания. Содержательно, таким образом, мы продолжим тему прошлой лекции, и одновременно будем обращать внимание на формальную сторону интересующих нас речений.
В книге Екклесиаста сказано: Слова мудрых – как иглы и как вбитые гвозди, и составители их – от единого пастыря (Еккл. 12, 11). Замечательное, между прочим, свидетельство Богодухновенности всего Священного Писания. И будет едино стадо и един Пастырь (Ин. 10, 16). Единый Пастырь – Сам Господь. Слова мудрых – это слова Его пророков и апостолов. А сами слова эти – как вбитые гвозди. Т.е. вошли в свое место, и не вынешь. Когда гвоздь входит в дерево, становится на свое место, то его уже оттуда не достанешь. "Что написано пером, того не вырубишь топором". Ни прибавить, ни убавить.
Итак, что же характерно для пророков, апостолов, что характерно для святых всех времен, напоенных единым духом? Это удивительный лаконизм, афористичность, краткость, образность речи. Несомненно, что и мы, размышляя о слове, о тайне воздействия его на человеческие сердца, должны уподобить наше слово гвоздю, клинку, мечу, который входит в сердце и остается там. Прекрасный, предельно обобщенный образ, меткий афоризм, чтобы слушатели могли научиться и от формы. А учит Святой Дух. Возвещаем, – говорит святой апостол Павел, – не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого (1 Кор. 2, 13). И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией (1 Кор. 2, 4-5).
Теперь, как и обещали, обратимся к 18-й главе Притчей Соломоновых и предложим желающим поразмышлять с нами вместе по поводу глубоких и обличительных, по большей части, мыслей из притч. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум (Притч. 18, 2). Очень интересное изречение. Не менее содержателен четвертый стих: Слова уст человеческих – глубокие воды; источник мудрости – струящийся поток. Или вот еще: Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого – гибель для него, уста его – сеть для души его (Притч. 18, 6-7). Если никто не хочет поделиться своими домашними размышлениями, то мы будем вам вопросы задавать.
Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Что это значит – глупый не любит знания? Каких, стало быть, качеств не хватает его душе? У него есть избыток глупости. "Глупый" в данном случае – это не ругательство, а свидетельство о недостатке рассудительности, мудрости. Каких качеств у него не хватает, коль скоро он "не любит знание"? (Ответы студентов: Добродетелей не хватает; Не выполняет заповеди, наверное). Безусловно, человек не рассудительный согрешает недостатком мудрости, хотя он может стараться исполнить внешние заповеди, как он их понимает. Если он не любит знания, то, значит, что ему чуждо? Что присуще хорошему студенту и чуждо такому, по комсомольской путевке поступившему в Богословский институт? Конечно, ему не хватает усердия, усидчивости. Без этих внешних добродетелей не жди усвоения, не ожидай, что знания придут к тебе. Но это внешняя добродетель. А есть еще, например, стремление докопаться до сути, постижение существа материала. Иной конспектирует – рука отсохнет, а другой схватывает на лету самое существо. С различной мерой глубины мы усваиваем материал. Глупый не любит знания. Он не любит, например, размышлять о том, как соединены между собой те или иные отрасли знания. У него всё хаотично, всё у него отрывочно: "чего-нибудь и как-нибудь". А рассудительный так познает, что у него складывается целостное мировоззрение от альфы до омеги. Глупый, нерассудительный увлекается какими-то внешними, блестящими силлогизмами. А рассудительный хочет, как мы сказали, дойти до существа вопроса.
Только бы выказать свой ум. То есть, какой он страстью пленен? Какая страсть побуждает его свой ум выказывать? (Ответ: Себялюбие). Себялюбие в основе. (Еще ответ студента: Тщеславие). Тщеславие, конечно. И гордыня, которая сопряжена с тщеславием. А тщеславие – это такое свойство, такой порок души, который заставляет человека искать лишь человеческого. Ищет угождения людям. Ищет человеческой похвалы, славы тщетной, суетной. Смотрите: глупый выказывает свой ум, т.е. он хочет лишь внешним знанием поделиться, произвести впечатление. Он является всего лишь хладной кладовой, бездушным чердаком, на котором складируются эти знания. А у умного – у него, конечно, все глубже, у него сердечные сокровища, ему не нужно эти сокровища выказывать. Напротив, он радуется тому, что знание обновляет его душу. И он ничего не ищет от людей. Он не спешит бить на внешние эффекты. Зачем ему это нужно?! И действительно, когда встречаешься с человеком, который кичится внешней академичностью своих познаний или хочет произвести на бедных студентов впечатление своим кругозором, то ощущение пустоты остается.
Слова уст человеческих – глубокие воды (Притч. 18, 4). Давайте поразмышляем над сутью, спрятанной в этих словах. Если кто хорошо занимался природоведением, вспомните, что говорят исследователи о водах какого-нибудь озера – Иссык-Куль или Байкал. Как там воды различаются между собой, особенно, когда войдешь в них? Поверхность воды, как правило, прогревается солнцем. А чуть ниже – вода холодная. Есть, например, под Норильском, в области вечной мерзлоты, такие озера (молодежь там очень любит купаться), в которых в короткие летние периоды вода на поверхности достигает привычной для нас температуры +20° с чем-то. А ниже там лед, и температура +3°. И поэтому очень часто там случается смерть от обмораживания: сердце у людей останавливается, сводит ноги. Опять же, на поверхности воды могут быть взбаламучены, а в глубинах они чисты, как слеза. Слова уст человеческих – глубокие воды.... Это значит, что в слово можно проникать и проникать, его надо исследовать. Не все, что блестит, то золото. Не все, что сладко, то сахар. Слова человеческие – это глубина великая. Как и сказано о сердце: Приступит человек, и сердце глубоко (Пс. 63, 7).
Источник мудрости – струящийся поток (продолжение четвертого стиха 18-й главы). Мы уже говорили, что слова не просто исходят из ума, но сопряжены с сердцем. От избытка бо сердца уста глаголют (Мф. 12, 34). От избытка сердца говорят уста человеческие. В этой-то глубине сердечной сокрыт самый источник, который никогда не оскудевает. Это, безусловно, тайна, указывающая на присутствие сокровенное, пребывание в нашем духе Божественной благодати. Как говорит Господь: Кто верует в Меня, у того... из чрева потекут реки воды живой (Ин. 7, 38). Не погрешая против истины, можно перефразировать эти слова так: "У верующего в Меня из сердца истекут источники воды живой". У каждого из нас открывается такой источник в таинстве миропомазания. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши, – говорит святой апостол Павел (2 Кор. 1, 21-22). И святой Иоанн Богослов в своем послании подтверждает, что не имеет нужды чему-либо учить христиан, ибо помазание учит их всему: Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете всё (1 Ин. 2, 20). Т.е. по дару Духа Святого, принятого нами после Крещения в таинстве миропомазания, мы являемся обладателями этого источника, который по существу берет начало от благодати Господней. Так что слова, а еще прежде мысли, порождаемые в недрах этого источника, дают черед новым мыслям, новым словам, но источник не оскудевает.
Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои (Притч. 18, 6). Уста человека, лишенного разумения, исполнены духа самолюбия, как мы говорили, тщеславия, самоутверждения. Поэтому слова, порождаемые нерассудительным, чужды такой зрячей проницающей силы. Человек нерассудительный говорит для себя самого. Он не рассчитывает, не размышляет, не знает, как его слово отзовется. Ему и слушатели-то нужны не ради них самих, а ради ублажения собственного "Я", которое у него всегда на первом месте. И вот, говоря для себя, он не имеет ни духа смирения, ни духа мудрости, ни духа любви, и поэтому его слова уже перестают быть духовной пищей для слушателей, они перестают назидать, но возбуждают в людях страсти. Интересно, что "Риторика" Ломоносова (есть у него такое произведение) своим краеугольным камнем имеет именно это – возбуждение в людях страсти. Может, правда, под словом "pathos" – "пафос" Ломоносов имел в виду некое глубокое и сильное чувство: чувство любви к царю или к Родине, благородное негодование, но страсти, в общепринятом смысле, возбуждает как раз нерассудительное слово. Какие страсти? Уязвленное самолюбие, обидчивость. Когда мы самоутверждаемся за счет слушателей, то они, не будь дураки, это всегда понимают. У них рождается отчуждение: "Нахал, взобрался на кафедру...". Бывают, конечно, и более глубокие повреждения. Мы уже говорили о том, что зараженный страстью непременно через слово и слушателя заразит страстью чувственности или высокоумия, гордости. И вот поэтому-то слова глупого, т.е. человека чуждого Божественной премудрости, – гибель для него (Притч. 18, 7). Отчего так? Оттого, что он сеет соблазн, а соблазнитель во сто крат строже истязуется.
Уста глупого идут в ссору.... Они не примиряют, но сталкивают между собою людей. Возбуждая страсти, они сеют раздор, не имеют свойства лечить раны сердца. Уста глупого идут в ссору – метафора. Уста сравниваются с ногами. Являются как бы ногами для души, которая сама из огня да в полымя кидается. Слова его вызывают побои. Т.е. это у слушателя ощущение побитой собаки? Если, скажем, такой попался гордый обличитель, как Чацкий. Почему все его не любили? Почему у него от ума одно горе было? Потому что он людей достаточно симпатичных, людей достаточно патриархальных насмерть забивал своей холодной, обличающей речью. Вот, наверное, что имеется в виду. И был такой герой, уже советского периода: "Киса Воробьянинов почувствовал, что его будут бить и, возможно, ногами".
Слова глупого... вызывают побои. Действительно, мы бываем виноваты, когда плодом наших уст является возмущение тех, кто нас слушает, их негодование, если только это не тот редчайший случай, когда в Духе Святом человек действует, зная, на что он идет. Но, как правило, мы не без гордыньки приступаем к людям. И, наверное, здесь можно иметь в виду и слова Христа: Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они... обратившись, не растерзали вас (Мф. 7, 6). Когда вы святыню повергаете пред людьми безблагоговейными, пред людьми, нечисто живущими, то, как глупый, вы будете побиты, т.е. в ответ услышите только кощунство, озлобление, циничное неверие и прочее.
И последнее: Слова наушника – как лакомства, и они входят во внутренность чрева (Притч. 18, 19). Наушник – это тот, кто по секретику хочет два слова сказать девочке с соседней парты. Слова наушника – как лакомства. Что будет с лакомством через час после того, как мы его съели? И что будет с нами, если мы переели этих лакомств? Вот что интересно. А почему лакомства? Лакомство есть нечто вожделенное. Бывает, человек в поисках вкусненького обшарит все шкафы и серванты, пока, наконец, не найдет эти помадки, спрятанные прабабушкой ко дню 8 Марта. И вот он вожделеет тех сведений, тех оценок, которые трогают его до глубины души. Он приклоняет ухо, как лакомка язык вытягивает, чтобы положить на него помадку эту злосчастную, воро ворованную. Бывает, прямо зажмурится от удовольствия, даже раскраснеется от волнения, когда услышит такую информацию. Степень секретности ее можно определить словами: "Перед прочтением уничтожить". И наушник питает нас этим лакомством. А лакомство-то – со "штрих-кодом". На этих лакомствах буржуазных и написано: E312 – это онкологические заболевания, E125 – отравление пищевода, E115 – расстройство кишечника. И такое лакомство входит во чрево, услаждает его, а затем наступает горечь. Входит во внутренность чрева, т.е. имеет свойство отравлять душу и полностью ее порабощать, опустошать.
Вот, когда мы так всматриваемся, вдумываемся в каждое слово Священного Писания, то мало-помалу уразумеваем его емкость. Каждое изречение – это поистине сгусток мудрости. И потому и получились эти мысли так хорошо свернутыми в лаконичную форму, в завершенный афоризм, что эта мудрость не от человеков, но изрекали ее Святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Петр. 1, 21). Размышляя над этими афоризмами, прикладывая сердце к тому, чтобы постичь их суть, получаем и представление о человеческом слове, которое является не только средством общения между людьми, но, прежде всего, открывает душевные тайны самого человека, помогает ему познавать самого себя, является средством спасения нашей души, ибо, как сказано, от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься (Мф. 12, 37).
Разбирая наиболее важные вопросы, касающиеся мастерства публичных выступлений, не будем забывать, что мы говорим о речи духовной, имеющей своей целью христианское просвещение. И если ранее мы беседовали о духовности слова, тайне его зарождения в человеческом сердце, о соотношении его с жизнью Божественной, о плодах этого слова, о том, что оно вводит человека в богообщение, то теперь мы будем рассуждать о богомыслии как основе и предпосылке проповеди. Предмет весьма важный, но и не простой для восприятия.
Мы знаем, что в природе события, происходящие по воле Создателя, всегда подготавливаются. Любое природное явление всегда предполагает какие-то процессы, сокрытые от ока наблюдателя. Так, например, вулкан не начнет ни с того ни с сего извергать огненную лаву, но недели и месяцы пройдут в незримой грозной подготовке к этой катастрофе. Сначала произойдут изменения температуры в недрах земли, сдвиги земной коры, перемещение пластов, изменение давления, выход раскаленного вещества непосредственно к земной поверхности, и затем уже совершается всеми видимая катастрофа. Так бывает и с выходом воды, когда вдруг там или здесь откроется по воле Божией источник. Так же не вдруг вступает в свои права лето, но оно подготавливается и талыми водами, ручейками, которые подмывают снежные заносы, и все происходит в природе с чувством, с толком, с расстановкой, а мы добавим – с подготовкой.
Если так происходит в мире неразумной природы, то еще более это справедливо в отношении к человеческой, разумной природе. Скажем, каждый из нас от рождения наделен способностью к мышлению, даром слова, но не тотчас эти таланты проявляются. Не вдруг раскрывается во всей силе ум, деятельная способность души, воля, не вдруг становятся сильными и чувства. Сначала младенец подобен бутону, лепестки которого свернуты и еще не издают благоухания, и только по мере накопления тепла и света раскрывается соцветие. Так и младенец неизбежно должен пройти все вехи физического, нравственного и духовного становления, дабы по прошествии отрочества и ранней юности явился бы и родителям, и знакомым, и всему окружающему миру полноценный человек, нравственная личность.
Все это нам подсказывает, что и духовное слово, слово Божие, слово о Боге должно быть выношено в недрах человеческой души. Это относится как к подготовке вообще, выходу на служение, так и в деле приуготовления отдельно взятого слова, проповеди, беседы, и нет ничего более неблагодарного, опасного и вредного, чем выход на служение тогда, когда мы к нему еще и не призваны. Нет ничего более нелепого и смешного, как обращение к людям со словом, не вызревшим в тайниках души.
Христианская история показывает нам, что великие мужи никогда не начинали скоропалительно и поспешно что-либо говорить, если не удостоверялись в призвании и благословении на то Господа чрез Богом поставленных учителей. Преподобный Силуан Афонский, наш современник, написал свои чудесные записи о Божественной любви спустя сорок лет с начала его монашеского подвига; это было в двадцатом столетии. Скажем, один из самых замечательных древнерусских проповедников святитель Кирилл Туровский прежде занимался подвигом отшельничества, и даже столпничества в совершенном уединении, то есть молился, размышлял, читал Писание, а потом уже открылся источник его красноречия. Таков был и святой Иоанн Дамаскин, который, как многие знают, вступив в монастырь преподобного Саввы Освященного, получил запрет от старца к составлению священных гимнов и молитв, и Сама Матерь Божия, когда почла созревшим красный плод проповедования, повелела старцу снять сей запрет, и полились источники живой воды из уст преподобного инока Иоанна Дамаскина.
Что же это – значит, нам всем посвятить себя отшельничеству или наложить на свои уста обет молчания? Это было бы просто прекрасно, но, к сожалению, не весьма возможно. Да и время сейчас такое судорожное, торопливое, поверхностное. Во всяком случае, каждому, кто думает и размышляет о слове, кто стремится овладеть им, нужно знать, какого великого приуготовления, нравственной и духовной зрелости оно требует. И, стало быть, нужно непрестанно сокрушаться душой, ибо все мы сейчас суть духовные пигмеи, птенчики, которые еще не успели вылупиться из яйца. Относится это, к сожалению, не только к прихожанам и прихожанкам, но и ко многим батюшкам, включая и говорящего. И вот, сознание своего младенчества, своей незрелости много уже помогает делу. А теперь поближе к сути.
Что же такое богомыслие, и как им заниматься, и когда входит человек в это состояние? Очевидно, что богомыслие предполагает особенную погруженность ума и чувств человека в область духовной жизни. И, наверное, никто не вкушал начатки этого состояния, если прежде не даровано было ему хорошенько, с терпением, усердием, внутренним покаянием и детской простотой помолиться. Действительно, только благодаря молитве на наше сердце снисходит та нравственная сила, которую мы именуем Божией благодатью. И когда человеку случается от всей глубины своего естества воздохнуть и помолиться, вложив ум свой непокорный в слова молитвы – бывает, Господь награждает усилие молящегося, и в сердце его устанавливается некая необыкновенная тишина, Не такая, которую мы слышим, а особая тишина, которую некоторые именуют священным безмолвием. Как на море состояние штиля, когда ни один порыв ветра не колышет водной поверхности и вы не можете заметить ни начатка ряби на этом зерцале водном, так и в душе наступает священное безмолвие, когда Сам Бог налагает Свою десницу на ум и сердце человека и свершается малое чудо в душе молящегося: словно назойливые насекомые, испугавшиеся свечи или "фумитокса", отходят куда-то помыслы, мысли, беспорядочно кружившиеся в голове, внезапно умирают все земные чувства, которые постоянно теребят нашу волю, как цыганята, пристающие к прохожим: "Дяденька, дай, дяденька, ну дай, дай еще", – и не знаешь, куда прятаться от этих цыганят, потому что дал, а им все мало. Так бывает и в нашем естественном, падшем состоянии: только начал читать вечернее правило – прямо под ложечкой засосало, как захотелось поесть, и в голове тут же явился недоеденный кекс с изюмом и еще что-то вкусное на тарелке. А уж после вечернего правила, во-первых, ничего вкушать и не положено, а во-вторых, кто-нибудь этот кусочек обязательно съест – ну прямо рвется своей худшей частью человек на кухню и при этом читает: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
И вот приходит Божия благодать, и умирает в человеке все земное, утихают чувства, уходят в небытие помыслы; а самое главное, силы его души, внезапно соединенные с Божией благодатью, устремляются ввысь, горе, к Богу. И вкушает тогда душа начатки совершенного покоя и совершенного счастья, чувствует она себя малым дитятей или легкокрылым ангелом, для которого так же естественно обращаться к Богу, думать о высоком, прекрасном, божественном, святом, как всем нам дышать и видеть. Такое состояние надъестественно по своей природе, оно подразумевает какую-то особенную светлость ума и сердца, просвещенность свыше, и знание об этом состоянии мы черпаем у многих знаменитых проповедников, святителей, епископов. Так, всего выразительнее об этом высказался святой митрополит Филарет Московский. Он рассказывал, что обычно к проповедям готовится накануне вечером, во время богослужения. И когда, встав в алтаре, он молится и прислушивается к песнопениям Церкви, то ум его, приведенный в состояние тихости, словно ожидает чего-то того, что называют вдохновением или озарением – а был он, конечно, муж духовный и опытный, смиренный и кроткий, и вправе был ожидать озарения от Бога. И вот, говорит святитель Филарет, внезапно сердце мое, размышляющее о празднике и о содержании предстоящей проповеди, вдруг уязвляется какой-то мыслью, относящейся к самому празднеству, как будто некое горчичное зернышко раскрывается в душе, и в этом зернышке содержится главная мысль моего будущего слова. И над этим словом я буду трудиться и после службы, записывая его и готовясь к его произнесению. А еще владыка Филарет говорил, что такие мысли, приходящие свыше, от Бога и ложащиеся на спокойное, чистое и мирное сердце, подобны падающим осенним звездам, которые в темную августовскую ночь рассекают небо, очерчивая его своей светящейся траекторией, и потом гаснут в неведомой дали. Так, говорил владыка, и с просвещением, даруемым Богом: если ты вовремя эту мысль не ухватишь, если не потрудишься удержать ее в памяти, то она вскоре потухнет и растворится в твоем сознании, и у тебя останется только воспоминание о ней, как, скажем, о благоухании розы, которое сегодня есть, а завтра нет. И как ты ни тужься, как ни старайся, не сможешь даже вспомнить об этой мысли, просветившей тебя, потому что она не от твоего падшего естества, а от Бога. Это та самая мудрость, которая приходит свыше, по слову апостола Иакова, и бывает кротка, чиста, мирна и исполнена других благословенных даров. Вот почему такие замечательные проповедники, как святитель Филарет, святой Иоанн Кронштадтский, святой Иннокентий Херсонский и многие другие имели обыкновение записывать то, что пришло им на ум, а лучше сказать, легло на сердце после напряженной молитвы или внимательного слушания богослужения. Святой Силуан Афонский добавляет, что не всякого таким образом назидает благодать Господня, а лишь душу простую и незлобивую. Об этом же и Господь говорил Отцу: Отче, благодарю Тебя, яко утаил сие от мудрых и разумных, от тех умников, которые доверяют лишь своему уму и своим логическим, рационалистическим построениям; благодарю Тебя, яко сокрыл еси от мудрых и разумных эту премудрость и открыл ее младенцам, то есть не рефлектикам, не психоаналитикам, а ученикам Твоим, чистым сердцем, кротким и смиренным, молящимся Тебе на всякий день, на всякий час.
Последнее, что хочется вспомнить в связи с молитвой приуготовления к восприятию семени слова Божия, – это изречение премудрого царя Соломона о том, что в злохудожную душу премудрость не войдет и в теле, повинном греху, обитать не будет. Итак, мечтает и обольщает себя тот, кто находится еще, к сожалению, в нераскаянных грехах, то есть, знает за собой губительную страсть, но не вступил с ней в борьбу, не принес еще удовлетворительного покаяния, сосуд его еще осквернен произвольным соглашением с волею сатанинской. Вне святости и чистоты, говорит Апостол, никто не узрит лице Господне. Таким образом, если мы втайне надеемся, что наше слово приуготовляемо и говорено будет не без тайной помощи Божией, не без вдохновения, или, как говорят, не без помазания свыше, необходимо, прежде всего, порадеть о чистоте души и тела, что достигается покаянием, о чем мы уже подробно говорили ранее.
Сказав нечто об умении молитвенно взывать к Богу и располагать сердце свое к принятию свыше сходящей мудрости, перейдем непосредственно к Богомыслию.
Богомыслие не есть просто размышление о Боге и о предметах Божественных. Мы не назовем богомыслием изложение теологии в многотомных трудах Фомы Аквинского – того, кто лег мертвым телом в основание римского католического богословия, потому что там мы встречаем сущий рационализм, то есть дискурсивное 1 мышление, жалкие потуги нашего рацио, отчужденного и обнаженного от благодати Господней. Почему обнаженного и отчужденного? А потому что, повторим, в злохудожную душу-то премудрость не войдет, а нет большего злохудожества, чем ересь, то есть попрание божественных истин и смешение их с ложью человеческой и диавольской, ложью в воззрениях на Божество. Хорошо говорит об этом святитель Игнатий (Брянчанинов): можно убедиться, как с течением столетий Дух Божий все дальше и дальше отступал от сынов римокатоличества. Если еще Николай Кузанский – математик, кардинал – в чем-то приближается к святоотеческому благодатному богословствованию, то уж Фома Аквинский ушел в такие дебри, в которые лучше даже и не заходить ученику Святых Отцов.
Богомыслие, говорим мы, – это особая способность мысли обнимать духовные предметы. Мысль наша сама по себе бескрылая, но если Бог, в награду за покаяние, веру и молитву осенит вас, то мысль обретет крылья мудрости, крылья проникновения в духовные предметы, и Сам Бог на этих крыльях вашу мысль подымет и сделает ее способной отчасти воспринять от Его премудрости.
Но неужели остается опираться только на молитву? Нет, конечно. Помимо молитвы есть еще для нас особенная пища, которая помогает гадким утятам превратиться в белых лебедей. Пища эта – Священное Писание, чтение которого, неспешное и постоянное, есть один из главных аскетических подвигов православного христианина вообще и православного проповедника, в частности. Мы еще подробно поговорим о духовных свойствах слов Священного Писания. А сейчас только вспомним изречение Христа Спасителя на Тайной вечере. Помните, как Петр сказал: Господи, не только ноги, но и руки и главу [мою умый] (Ин. 13, 9). А Господь ему ответил: Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все (Ин. 13, 10). Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: "не все вы чисты", – имея в виду Иуду. А другие очищены, как сказано некогда Христом, через слово, проповеданное им. И действительно, чтение Священного Писания имеет удивительную способность и свойство очищать ум и сердце от всего противного Закону Божию. Даже если еще не понимаешь Писания, не разумеешь его глаголов, оно все равно, и помимо тебя, в награду за усердие свершает свое очищающее и просвещающее действие. Вот почему так нужны православные молитвы пред чтением Священного Писания: Господи, просвети меня Светом Божественного Евангелия Твоего, да будут мне во спасение словеса Книги сия. Потом приступающий к чтению еще прибавляет: Да вселится в мя, недостойного, благодать Твоя, просвещающая, освещающая и очищающая всего человека (то есть, и дух, и душу, и тело). Аминь. А после этого открываешь Писание и уразумеваешь чудеса от закона Господня.
Многие помнят и того начинающего инока, который жаловался богомудрому старцу на непонятность для него Псалтири. Мол, говорит, как мне читать и петь псалмы, когда я не разумею ясно слов Духа. А старец сказал ему: "Ты не понимаешь, зато бесы понимают". А в другом случае велел этому ученику взять корзину, запачканную глиной, и таскать воду из близлежащего источника в келью. Долго тот ее таскал, много раз за водой ходил, ничего не принес. Но тогда старец велел ему посмотреть на корзину изнутри – она была совершенно чиста от всякой глины; так, говорит, и ты читай святую Псалтирь, и неведомо для тебя самого Господь очистит душу твою Словом Божиим.
И вот что отличает нас, современных проповедников, часто достаточно красноречивых, убедительных в словесах своих, от перечисленных мною святителей девятнадцатого столетия. Речь идет, конечно, не о нравственных качествах, тут уж и сравнивать, кажется, себя нечего – чем можем мы, земля, сравниться с Небом. А речь идет о методе и о стиле, главных особенностях проповедника. Оказывается, что мы, современные проповедники, очень любим говорить от себя, как бы не без вдохновения призывая на сердце благодать Духа Святого, но сами строим свои умозаключения, сами размышляем, лишь изредка ссылаемся, приличия ради, на Священное Писание. Иной метод, иной ключ к произнесению слова и устроению проповеди был у святителей Феофана, Филарета, Иннокентия, Платона и прочих замечательных проповедников. У них, по слову преподобного Серафима Саровского, ум был погружен в Писание. Ум плавал в Писании, как белая лебедь в озере. И вправду, когда смотришь на эту царственно прекрасную птицу, неспешно перебирающую под водой лапами и плавно движущуюся по озерной глади, невольно застываешь в изумлении и восхищении. Вот так грация, вот красота! А мы-то только как лягушата там барахтаемся. Подобным образом и ум великих святителей был погружен в Писание, и об этом мы сейчас поговорим в связи с нашей темой о богомыслии.
Каждый из нас, когда размышляет о том или ином мирском понятии, так или иначе погружается умом своим в сокровищницу памяти, где у него собраны образы, которые он успел набрать за время общения своего с миром. В зависимости от этих образов находится и ваш лексический запас. Хотя, конечно, лексика не обретается в прямой связи с вашей способностью наблюдать окружающую действительность. Лексика подразумевает еще и некую книжность, отсутствие или присутствие оной. То есть способность облекать эти образы и понятия в слова вашего родного языка. Способность эта не только природная. Она является заработанной и благоприобретенной.
Но не о лексических законах мы будем говорить, а о том, что Священное Писание – это целый мир. Как хорошо русскому православному христианину войти в этот мир не узенькой, покосившейся, но подремонтированной дверью – там заплатка из алюминия, тут новую ручку привернули пластмассовую, снизу двумя гвоздями скобу забили. И вот через эту латаную-перелатаную дверь большинство из нас вошли в мир Священного Писания. Что это за дверь? Это современный русский перевод Библии. Я имею в виду преимущественно Новый Завет и Псалтирь. Некоторые, к сожалению, так и остановились на этом русском переводе. Но есть другая дверь, ведущая в мир Священного Писания, – это церковнославянский язык, на котором и следует, прежде всего, постигать Новый Завет и Псалтирь. Кто в эту дверь зайдет, тот поистине пажить обрящет.
Знаете ли вы, как намывается на приисках золото? Берется целое решето земли с мельчайшими камешками и песком, в которой содержатся малые крупицы золота, и эта порода промывается в воде. И чем больше промывается земли, тем больше собирается этих крупинок, золотого песочка. Нечто подобное бывает и с нашим духовным состоянием, с нашим сознанием, когда мы, например, читаем кафизму. А читаем мы кафизму, когда, скажем, двадцать студентов нашего курса объединятся и возьмут на себя подвиг читать ежедневно Псалтирь – каждый в определенной очередности по одной кафизме в день. Так что каждый из двадцати за двадцать дней прочитывает всю Псалтирь. Петр первую кафизму читает, Саша вторую, Жора третью, Жанна пятую. Сегодня у Петра первая кафизма, а завтра вторая. А у Саши сегодня вторая, а завтра третья. А когда у Петра двадцатая, то у Саши первая. И двадцать человек за один день прочитывают всю Псалтирь. И эти духовные проценты вам капают не за одну кафизму, а за все двадцать, потому что у Бога не действует закон сохранения массы вещества. Бог не мерою дает Святого Духа. За то, что вы свою кафизму читаете, Бог дает вам благодати, как за целиком прочитанную Псалтирь. Представляете себе? Знай только, не пропускай. И когда вы эту кафизму-то читаете, да еще по главе Нового Завета, то мало-помалу накапливается золотой запас самосознания русского православного христианина, мало-помалу свершается погружение вашего ума в стихию Священного Писания. А ведь это та страна, где, по выражению пророка Исаии, "несть ни болезни, ни печали". Кто в эту страну вошел, для того она –Эльдорадо, тот край, где вместо камней золотые слитки и где он еще при жизни вкушает манну небесную. Здесь человек сердцем своим ощущает, ухом слышит, оком видит то, что Бог приготовил любящим Его. И сие свершается еще в этой жизни в награду за терпение и усилие пройти через узкую, но драгоценную дверь Священного Писания. И есть, таким образом, два мира. Один – видимый: студенческая аудитория, вестибюль, метрополитен, плакаты, реклама, перистые облака, две птички, вьющиеся над памятником Победы. И в этом мiре есть свои предметы, свои понятия, вкладываемые в вас житейской повседневностью и земными законами. Этому мiру соответствует определенное ассоциативное мышление. А есть еще мир невидимый, мир духовный, вход в который дается через веру и чтение Писания. В этот мир можно войти только чистым душою и чистым сердцем, с детской верой, простотой и незлобием. И что важно, обладая прилежанием, усердием и терпением в изучении Писания. И, конечно, любовью к святоотеческому Преданию Матери-Церкви. И когда вы в этот мир вошли умом и сердцем, то для вас внешний мир станет уже не таким интересным. А иногда вы даже будете просто открещиваться от видимого мiра, чтобы невидимый не стерт был гневной десницей Божией в вашем сознании и чтобы вас не вытолкнули оттуда взашей, как Адама и Еву.
Я к тому это говорю, что иногда приходится от мiра просто убегать. Убегать зрением, слухом, осязанием, как, знаете ли, премудрый пескарь. Вот хороший персонаж. Напрасно его обвиняют за то, что он никуда не высовывался из своей щели. Молодец, отсиживался от всех этих революционно-демократических тенденций. И переждал, и выжил.
Итак, если действительно вы, по милости Божией, чрез все означенные добродетели уже оказались по ту сторону этой двери – как сказано: Аз есмь дверь: Мною аще кто внидет, спасется: и внидет и изыдет, и пажить обрящет (Ин. 10, 9), – то уже иначе жить не сможете. Пажить, пастбище уже требует пребывания на нем овечки. А не так просто – погулял и ушел. Там остаешься и питаешься. И вот, войдя в этот мир, уже и мыслит иначе человек, и ассоциативный ряд у него другой, строящийся по другим законам. Мы подходим к тому, что составляет существо богомыслия.
Вот, например, какой-нибудь просвещенный богомудрый христианин уже зашел немножечко за эту драгоценную дверь, то устремляет он свой ум, и слух, и чувства в глубины памяти своей и призывает имя Господне. И приступает к нему в этот час уже не лектор, не инспектор, не какой-нибудь кабинетный ученый-богослов с симфонией 2 в руке, а Ангел Хранитель. Например, какой-нибудь катехизатор в ужасе думает: "Мне нужно завтра замещать преподавателя. Что же я скажу-то? Господи, помилуй". А Ангел Господень неслышно, на цыпочках подойдет и крылом по лбу проведет. И если душа чуткая и восприимчивая, то имя Господне отзывается вдруг в вашем сознании эхом. И вы начинаете размышлять о Боге и о Божественном. И называется это богомыслием. И вы обязательно услышите ответ. Он придет к вам неизреченно. Это не то, что вам Бог провещает – этак и в прелесть можно впасть, если возомнить, что с тобой Христос разговаривает. Но когда ваше естество настроено на богообщение, то Ангел Хранитель и влагает нужное, и ваше естество само то и говорит. И оно, ваше естество, вам говорит, что имя Его – как миро излиянное. Это вторая, можно сказать, строчка из Песни Песней премудрого царя Соломона. Имя Его яко миро излиянное (Песн. 1, 2). А дальше душа размышляет: нет иного имени, которым подобает спастись нам под небесами, кроме имени Господа нашего, единственного и неповторимого. Лишь этим именем и Тем, Кто стоит за ним, нам даруется спасение. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Душа уже начинает размышлять: "Как интересно. А многих ли из нас призывает это имя Господне? А то некоторые, как прочитают в Евангелии, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется, так тут же успокаиваются, решив: вот погрешу, покурю, поблужу, а потом призову имя Господне и спасусь. Да нет, брат, ибо не всякий, глаголющий Мне: Господи! Господи! внидет во Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7, 21).
Но как это – имя-то Господне призывать? А сказано: и о имени Твоем возрадуются весь день (Пс. 88, 17). Весь день! Стало быть, надо помнить об этом имени, покуда ты бодрствуешь. Только ли будем радоваться об этом имени? Нет, придется потерпеть много. Ибо сказано: обышедше обыдоша мя… врази Твои …и именем Господним противляхся им (Пс. 117, 11). Оказывается, для христианина имя Господне, что щит и меч для воина, сопротивляющегося злой силе, супротивникам. И так будет думать христианин. И чем больше он будет думать, тем более Ангел Хранитель ему доставит материала для размышления – на всю жизнь хватит.
А теперь обратимся ко святой Псалтири и разберем с вами первый псалом царя и пророка Давида.
Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых (Пс. 1, 1). Нужно сказать, что весь псалом раскрывает содержание этого понятия: блажен муж. Сначала этот псалом от противного говорит, чего блажен муж не творит, каков он не есть. А потом возвещает положительное учение. А каков же муж блажен на самом деле? Весь псалом умещается, по существу, в эти два слова: блажен муж. Очевидно, что Сам Господь почтил этот псалом Своим вниманием, потому что когда в Нагорной проповеди Иисус отверз уста Свои, то первым произнес как раз это слово "блаженны": Блаженны нищие духом (Мф. 5, 3). Для кого Господь произнес это слово? Для простых людей – бедных, больных, страдающих, которые искали исцеления и облегчения участи. Одни желали послушать Его учение, другие искали исцеления от недуга. Сбывались слова пророка Исаии: Он взял на себя наши немощи, и понес болезни. (Мф. 8, 17).
Но, исцеляя болезни тела, Господь видел в душах окружавших Его людей страшную болезнь – невежество и предрассудки. Все эти люди более или менее веровали в Него как Мессию, но видели в этом Мессии – царя земного, имеющего власть устроить на земле Царство, в которое войдут только потомки праведника Авраама, благословенного Богом, – евреи, исполняющие Закон Моисеев. Предстояло теперь Спасителю разрушить предрассудки людей, объяснить, что Царство Его далеко не похоже на царство земное, в него имеют право входа не одни только потомки Авраама по плоти, но все те, кто по своим душевным качествам похож на Авраама. И вот такие люди будут блаженны. Он утешал и вразумлял их, чтобы все поняли: осанна Сыну Давидову. Пред ними был истинный потомок и Господь Давида, ибо возвещал единое с ним учение. Блажен муж – это лишь тот, кто лице свое имеет обращенным к Богу. А ведь Бог всеблажен, по учению апостола Павла. Бог живет во Свете неприступном. Итак, когда слышим словосочетание блажен муж, то имеем в виду христианина. Ибо Всеблагаго Бога знает и имеет с Ним общение только тот, кто имеет со Христом общее имя. То есть тот, кто верует в Сына Божия, восставшего из мертвых. Муж блажен. Какая-нибудь из наших прекрасных слушательниц внутри себя скажет: а жена? Почему только муж блажен? Под этим словосочетанием Псалмопевец имеет в виду любого праведника, в том числе и жену. Блажен муж, который бежит от греха, отражает от себя грех, будь то беззаконный поступок, или помысл, или чувство, приносящее греховное наслаждение. Если с таким крепким мужеством слабая жена отражает от себя грех, то и она – блажен муж, воспетый Давидом. И вообще, скажу вам, речь идет о совершенном возрасте. О мере возраста Христова. Ибо одно дело – юнец, а другое – муж. Муж – это душа окрепшая и мужественная. И в этом смысле жены-мироносицы явили куда более мужества, чем апостолы, расточившиеся там и сям при первых угрозах со стороны неистового в злобе синедриона. Итак, мужем именуется душа, вошедшая в духовную зрелость, в духовный возраст. От младенчества перешедшая к твердому нравственному состоянию.
Блажен муж. И если не хочет он лишить себя блаженства, то пусть не делает того-то и того-то. Чего именно? Здесь указаны три ступени в преисподнюю. И каждый из слушателей должен мысленно вопросить свою совесть, не оступился ли он уже, не сошел ли в первый круг ада. Не дай Бог, во второй. Вот эти ступени. Иже не иде на совет нечестивых – первая ступень вниз. Вторая ступень: и на пути грешных не ста. Третья, это уже, можно сказать, тартарары: и на седалище губителей не седе. Никто не может соскользнуть сразу с ровной поверхности земли и вниз на три пролета пролететь. Для этого надо постараться. Ибо спуск для ленивых, безрассудных, легкомысленных и невнимательных свершается незаметно..
Первая ступень: не иде на совет нечестивых. Если не хочешь потерять дарованное тебе блаженство богопознания, богообщения, не ходи на совет, то есть в общение с нечестивыми. Кто такие нечестивые? Те, кто Бога не знают и знать не хотят. Не называй друзьями и подружками тех, кто находится во вражде с Божественной любовью, истиною, чистотой и красотой. Но если хочешь, можешь понимать и глубже. Совет нечестивых суть непрестанные советования, которые злой змий нашептывает не умудренной душе. Совет нечестивых есть болезненное прислушивание к помыслу сердца своего. И тот, кто слушает голос страстей своих – а страсти-то говорят: "Иди, не робей, не смущайся, давай скорей, не отбивайся от коллектива. Тебе что, больше всех надо? Но почему ты должна быть не такая, как все?", – слушает эти помыслы, то невольно убеждается ими, потому что диавол имеет большую силу внушения. Сколько надо мудрости, чтобы этот совет нечестивых не слушать, а вовремя осенить себя крестом и твердо положить предел этому змеиному, диавольскому нашептыванию. Если не пойдешь на этот совет, не будешь беседовать с помыслами, то останешься блаженным, то есть чистым, кротким, святым, непорочным, небесным, духовным и возвышенным. А если начнешь ум свой преклонять под это ярмо и диавол завладеет твоим вниманием, трудно тебе уже будет остановиться от скольжения по наклонной плоскости. Почему и сказано: не иде на совет нечестивых.
А далее уже новая ступень: на пути грешных не ста. Грешный, он уже теряет подвижность, с которой мы можем от злой мысли, вовремя откинутой, обратиться к молитве. Христианин – это очень динамичное, как мы говорим, легкокрылое существо. А вот когда ты уже стал грешным, то есть, согрешил самим делом, тогда у тебя в душе происходит какое-то, я бы сказал, заизвесткование, душа теряет гибкость и подвижность, теряет дыхание Божественной любви. И уже стоит бедная грешная душа, как соляной столп. И говорят ей: "Ну, чего ты хочешь? Ну, хочешь – поужинай". – "Не хочу". – "Ну, хочешь, в кино пойдем?" – "Надоело". – "Чего же ты хочешь?" – "Ничего, надоели вы мне все. Уже вот здесь вот…" Потому что человек уже стал как соляной столп, как жена Лотова. Умертвил он грехом свою душу. И пока не покается – не оживет. Будет как мраморная статуя. Но не античного периода, а советского. Знаете такую? Ни мысли, ни движения ни в уме, ни в сердце. Вот это греховный столбняк. Он бывает, когда сам диавол делает нам прививку и травит ядом внутренняя души нашей.
Но самое страшное – это уже седалище губителей. Губитель не только сам согрешил, но еще и других губит. Под седалищем, по толкованию Афанасия Великого, подразумевается учение неправедное. Вспомните слова, сказанные Иисусом: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи (Мф. 23, 2). Посему седалище губителей есть учение лукавых.
Существует в молодежном лексиконе слово "авторитет": "Он для меня не авторитет. А его я послушать готова". И вот губитель, соблазнитель – это уже тот, кто развращает неискушенных и неумудренных. Кто уважать себя заставил, достиг степеней известных. А в глазах у него одна сальная похоть и нечистота. Сбереги Бог нас от таковых. А они, увы, на пути студентов встречаются. И вот, блажен муж, который по этой широкой дорожке нечестивых и грешных не пошел и никогда не сидел на седалище развратителей. Но в законе Господнем воля его (Пс. 1, 2). Заметим, друзья: не только сердце, и не только ум, а воля. То есть, становой хребет человеческой души. Мало умом соглашаться с законом Господним, важно волею с ним соединиться так, чтобы он стал твоим, а ты бы стал его, ему принадлежал. Воля мужа в законе Господнем. Вот это подлинное спасение. И в законе Его поучится день и ночь (Пс. 1, 2).
Но поучаться днем – это понятно. А как ночью-то учиться в законе Господнем, когда человек спит? В награду за деятельное дневное исполнение Закона Господня Господь даст тебе особенную ночь, о которой в Псалтири и сказано: просвещение в сладости Моей (Пс. 138, 12). Человек спит, и, конечно, он не поучается в Законе Господнем. Но Бог его хранит в награду за дневное поучение. Сердце, вобрав в себя некую теплоту молитвы, пребывает ночью в тишине. И вот к нему подкрадывается какой-то адский киномеханик и только хочет показать американский двухсерийный цветной широкоформатный фильм христианину – а всего только и надо ленточку зацепить за сердце, и пошло-поехало, такой гадости насмотритесь, что даже под душем не отмоетесь. А такое бывает. Бесы умеют в рекордно короткий срок показать рекордно мерзкий фильм. И вот, пришел этот адский киномеханик, только хотел вам эту пленочку намотать на ваше подсознание, а у вас вдруг из сердца пламя как пыхнет – и вся пленка у него сгорела. Вот такой огненный христианин должен быть не днем лишь, а и ночью. Кто не верит, пусть проверит. В законе Господни воля его и в законе Его поучится день и ночь (Пс. 1, 2). Как сказано: я сплю, а сердце мое бдит.
Положительную часть псалма мы разберем позже. А вы тем временем сами с помощью святоотеческого истолкования попробуйте разобрать первый псалом, не спеша подумайте, как понимать его непосредственно, а как – духовно, иносказательно. Это очень интересное занятие, которое поистине обогащает и делает человека радостнее.
Обратим свой взгляд к внутренней стороне христианской жизни и поразмышляем о том, как связаны между собою догматика и нравственность и какое значение в духовной жизни христианина имеет ясное умственное и сердечное усвоение богооткровенных истин веры, догм.
На память приходят творения преподобного Макария Великого, в которых запечатлена глубокая небесная мудрость. В них, однако, есть и свидетельства о великой мере помрачения человеческого естества грехом. Преподобный Макарий, опытно изведав на себе все тайны духовной жизни, говорит, что князь тьмы, совлекши с Адама и Евы светоносные одеяния благодати Божией, набросил на человеческую природу свой темный покров, как бы некую мрачную ветошь. И эта темнота охватила все наше естество – дух, душу, тело. Темнота сия именуется плотью, или грехом, царствующим в нашей природе. И есть на дню такое время, когда даже не особенно интересующиеся самопознанием христиане опытно убеждаются в истине, засвидетельствованной преподобным Макарием. Что это за время? Это время пробуждения, когда мы после сна восстаем с одра, приводим себя в вертикальное положение, а затем переводим взор на самих себя, вглубь собственной души. И то, что видит христианин внутри себя самого, лучше всего передают слова из книги "Бытия": земля была безвидна и пуста (неустроена), и тьма над бездною (Быт. 1, 2). И действительно, христианин, хоть сколько-нибудь молящийся, знает, что поутру часто ощущается особенная немощь, остро чувствуется собственная греховность и ущербность. Часто ум не в состоянии сложить вместе двух-трех слов молитвы. Иногда мы наблюдаем в себе то, о чем говорит святой Иоанн Лествичник: помысл играет. То есть мысль настолько лукава, неуловима, рассредоточена, рассеяна, что легче бывает, восстав от сна, вспомнить что-нибудь из впечатлений прожитого дня, или заняться рассматриванием нелепого сновидения, или погрузить свой ум в образы этого мира, в грядущие заботы, но чтобы сразу от сердца обратить к Богу глас молитвы – гласом моим ко Господу воззвах (Пс.141,2), заутра предстану Ти (Пс.5,4), услыши мя, Господи (Пс.140,2) – это сделать нам бывает весьма сложно.
В качестве лекарства для совлечения этого темного покрывала, этого помрачения, которое мучает ум и сердце, учителя духовной жизни предлагают немощным христианам – а речь идет о нас самих – богомыслие, то есть волевое устремление ума и сердца к предмету нашей веры – к Богу. Богомыслие, посредством которого мы как бы воскрешаем в нашем сознании богооткровенные истины веры. Эти истины становятся нравственной опорой, хребтом внутренней духовной деятельности христианина, пробудившегося от сна, как бы восставшего из мертвых. В частности, епископ Феофан Затворник говорит о том, что по восстании от сна бывает очень важно вспомнить истины Символа веры и, приложив их к язве души своей, посредством них войти в мир духовный, утвердить свои стопы на земле спасения; вспомнить о Царстве Небесном, добытом для нас Кровью и Воскресением Искупителя, ощутить под своими стопами бездны ада, на которые обречено согрешившее человечество, если не воспользуется плодами искупления. Важно прежде всего обратить умственный взор ко Христу – Источнику силы животворящей и воскрешающей нашу душу. Но надобно между тем вспомнить и о бесплотном враге – князе тьмы, который искал нашей погибели и тогда, когда мы спали, нанося в душу уродливые, бессвязные, часто душевредные воспоминания, всячески возбуждая нечистотой наш дух. Епископ Феофан посредством богомыслия предлагает христианину облечься в воинское вооружение, ощутить себя воином, ратоборцем, солдатом и таким образом начать боевые действия, основой которых является молитвенная устремленность нашего естества к Создателю.
И мы можем и должны этим пользоваться, если не хотим, чтобы утренние часы были отравлены нашей леностью, вялостью, безмолитвенностью; если не хотим, чтобы на чистой палитре нашей души мир, лежащий во зле, начертал свои уродливые рисунки, грязные каракули. Чтобы этот "безумный, безумный, безумный мир", помрачив наше духовное око, не сделал бы нас неспособными к главному делу нашей жизни – молитвенному предстоянию Живому Богу.
Перечислю кратко те догматические истины, которые христианин должен усилием воли и ума вложить в свою душу подобно тому, как к гноящейся ране врач прикладывает пластырь, дабы оживляющее действие лекарства через какое-то время дало себя знать. Итак, восстав от сна, мы находим наш ум в каком-то разбросанном, рассеянном состоянии. Что нужно противопоставить этой расколотости сознания, этой помраченности ума? Конечно же, истину о Едином Боге, надмирном Творце. И вслед за этой истиной о создавшем мир, но пребывающем вне его Едином Боге тотчас духом, умом, сердцем следует помолиться, как сумеете – знакомой ли какой молитвой или от себя составленной, дабы Господь Бог даровал нам благодать в течение всего дня памятовать о Нем и о посланном Им в мир Сыне Божием. Помолиться вслед за апостолом Павлом о том, чтобы Бог даровал нам все вменить в умету, в сор, в суету, все отбросить ради единственного желания: с Единым Богом беседовать. Так вот, сочетая богомыслие и молитву, христианин тотчас восчувствует некую нравственную опору, некую крепость. Одновременно прояснеет его сознание, вместе с этим начнут приподниматься крылья души, заснувшей вместе с телом. Вслед за тем душа под воздействием Духа Господня, Которым все мы отмечены в час нашего духовного возрождения, начнет как бы от себя рождать те светлые благие помыслы о Боге, которые являются, собственно, отпечатком догматических истин, дарованных нам в откровении. Мы начнем помышлять о вечности Божества: вечен Бог – и вчера, и сегодня Один и Тот же; земля прейдет, небо совьется, словно свиток, Ты же Един вовеки пребываешь, Господи. И тотчас от этого помышления мы воскрешаем для себя истину о бессмертии нашей собственной души, о бессмертии, дарованном нам по благодати, по дару Божию. Мы призваны пережить это ощущение: душа моя, лучшая часть моя, воистину бессмертна. Господи, помоги же мне сохранить свою бессмертную душу от стрелы греха, от нравственной смерти, от всякой нечистоты и порока, ибо какой отчет, какой выкуп я дам за душу свою, если весь мир приобрету, а ей поврежу? И уже как бы естественно, но на самом деле с тайным вспомоществованием Божиим мы восходим, поднимаемся к постижению вездесущия и всеведения Божества. Ты, Господи, вездесущ, Ты Своим взором всюду проникаешь, везде присутствуешь Твоей Благодатью, Которая не смешивается с этим миром, но действует в нем, как нетварная энергия. Если Господь вездесущ, то и нам должно, по крайней мере, всегда присутствовать умом в нас самих. Как Бог Своим Божественным взором обнимает и Небо, и землю, и все, что в них, так наш умственный взор должен быть обращен в глубины нашей собственной епархии, состояние дел в которой мы должны знать хорошо, ибо подотчетны. Наша епархия – это наша душа; помоги же мне, Господи, на все часы дня сего всегда зреть собственную душу, всегда наблюдать за своим сердцем, всегда, словно мудрому садовнику, охранять то небесное растение, которое Ты насадил в час крещения. И как Ты, Господи, всеведущ, от Тебя не укрывается ни одна мысль, ни одно намерение, ни одно слово человеческое, даруй мне познать душу свою в возможной для меня мере. Научи меня наблюдать за моими страстями, которые гнездятся в сокровенных глубинах души, от тайных моих очисти мя, от чуждих пощади раба Твоего (Пс. 18, 13-14) , научи меня, Господи, увидеть, разглядеть того таинственного змия, о котором говорит в своих писаниях Макарий Великий. Изгнанный в час крещения из души нашей и ума, он, однако, где-то бродит, скитается на периферии души, гнездится в телесных членах. Научи же меня узреть этого змия, осознать все рабство, в котором я еще нахожусь, сотворить брань с этим драконом, сверженным с небес, поругаться ему по слову Писания: змий сей, егоже созда, ругатися ему (Пс. 103, 26), – то есть посмеяться над ним и попрать его стопами. "Ты, Господи, неизменяем, – наконец помышляет христианин о своем Небесном Владыке. – Но все разумное творение, Тобою созданное, призвано к изменению – от меньшего к большему, от худшего к лучшему. Научи же меня, Господи, ныне положить благое изменение в своей жизни". Или, как молился один мудрый пастырь, оставив нам в наследство эту кратенькую молитву: "Помоги мне сегодня, сейчас изменить в своей жизни то, что я могу и должен изменить, научи меня претерпеть то, чего я изменить не могу, и даруй мне отличать первое от второго".
С мыслью о неизменяемости Божества, а вместе с тем устремленности к Нему всей разумной твари соединяется, должно быть, то, что именуется ревностью к богоугождению, то, о чем говорил апостол Павел: "Теку, гоню, да постигну, простираюсь вперед, забывая задняя, стремлюсь к почести вышнего звания" 3. И вот эта внутренняя устремленность нашего духа к Причине, Источнику нашего бытия, внутреннее горение сердца, сосредоточенность ума, воли и чувств в Боге и есть, собственно, та динамика духовной жизни, то внутреннее движение, которое отличает присутствие жизни во Христе от отсутствия ее. Жизнь с избытком от смерти внутренней. И чем ранее в утренний час мы взойдем в это искрометное, бодрое, радостное состояние, именуемое в Писании горением духа: духом пламенейте (Рим. 12, 11), духа не угашайте (1 Фес. 5, 19), – тем легче, светлее, разумнее, полнее, плодотворнее будет день, который предстоит нам прожить с Божией помощью. Свят Господь и праведен. И для нас особенно полезно размышлять о святости и совершенстве Создателя. Свят Господь, и не преселится к Нему лукавнующий, – говорит святой царь Давид 4. Праведен Господь, а потому всегда познает, взыскивает грех, выбрасывает его вон, во тьму кромешную, производя над грехом праведный Свой суд.
Особенно должно нам размышлять о праведности Божества, дабы возбудить в эти утренние часы ненависть ко греху, отвращение от него. Важно не просто познать и назвать грех грехом, но переживать его как беззаконие, мерзость, с существованием которой внутри себя мы мириться не можем и не должны. Нет ничего полезнее, как возбуждать в себе эту воистину священную ненависть, потому что диавол тотчас отскакивает, как ошпаренный, от христианина, видя, что тот приводит свое вооружение в полную боевую готовность, уже вытаскивает из ножен обоюдоострый меч молитвы, которым мы призваны рассекать надвое мысленных змей – греховные помышления, приступающие к нам.
Наконец, Бог есть Любовь. Самое бытие мое обусловлено тем, что Бог, по преизбытку Благости, из небытия призвал меня в бытие. Бог есть полнота, все Собою наполняющая. Божественная Любовь воздвигла мир, чтобы он пребывал в благобытии, и наше дело это благобытие поддерживать. И сие не только уразуметь, но и восчувствовать должен христианин поутру. Бог есть Любовь, и Он даровал мне этот Свой дар, требуя от меня возлюбить ближнего, как Он Сам возлюбил каждое из разумных Своих созданий. И если мы согреем сердце таким помышлением поутру, то, совершенно очевидно, в нем уже не будет места ни ненависти, ни раздражительности, ни равнодушию, ни осуждению, но душа исполнится по благодати Божией сочувствия, сострадания, жалости, сопереживания. Во всяком случае, будет способна выполнить завет Апостола: радоваться с радующимися и плакать с плачущими (См. Рим. 12, 15). И как венец этого размышления, мы поклоняемся Единому в Троице прославляемому – Отцу, Сыну и Святому Духу. Мысль о Божественной Троице, равночестных Лицах Ее сопряжена с помышлением о Царственном Единстве, согласии, предвечной гармонии. И хотя в нас, конечно, нет точного образа Троицы, но, будучи созданы Богом по Его подобию, мы все-таки можем и должны помолиться о том, чтобы Господь упразднил в нас вражду и даровал согласие ума, чувств и воли; даровал бы по благодати единство духа, души и тела в их деятельном предстоянии и служении Господу.
И, наконец, последнее – помышление о Единородном Сыне Божием, посланном для того, чтобы мир не погиб, но имел бы жизнь вечную. Велия тайна благочестия – Бог явися во плоти (1Тим. 3, 16). Помышление о Боге, воспринявшем на Себя человеческое естество, думаю, для усердного христианина неразрывно связано с вожделением Пречистого Тела и Крови Господа Иисуса Христа. Хлеб наш насущный даждь нам днесь (Мф. 6, 11) – этот Хлеб и есть Сам Господь Иисус Христос, в Евхаристии предлагающий нам бессмертную Трапезу, приобщающий нас Пречистого Своего Тела и Своей Крови. Последнее особенно важно для христианина, ибо если мы с утреннего часа ощутим в себе эту алчбу и жажду Божества, захотим соединиться с Господом, то все наше деятельное благочестие – и внутреннее, и внешнее – получит и разум, и смысл, и одушевленность, ибо не для того ли нам должно подвизаться в этом мире, дабы с дерзновением иметь возможность приступать к Источнику жизни.
А теперь настала пора поговорить о слове древних ораторов, а затем о слове Господа нашего Иисуса Христа. Изучение дела показывает, что Святые Отцы, как мудрые пчелы, умели брать все лучшее, что только выработало человечество в науке о человеке или о слове, а вместе с тем полагали добытое кропотливыми изысканиями к стопам Христа, который, хотя нигде Сам не учился, но является Словом Воплощенным, Отчей Премудростью и Силой. Во Христе, безусловно, мы обретаем все слова и дела человеческие, явленные в их совершенстве. Как сказано: Верен Господь во всех словесах Своих и преподобен во всех делех Своих. (Пс. 144, 13). Христос Спаситель для нас недосягаемый эталон, и в этом смысле, безусловно, мы имеем замечательную возможность исследовать слово Господа: какими качествами внешними и внутренними оно отличалось. Но прежде обратимся к опыту античности.
1. Слово древних ораторов
Античности мы обязаны многими риториками, размышлениями о слове. Мудрецы античности стремились понять, что есть красота, уделяли внимание и содержанию, и особенно форме, неотделимой от содержания. На примере античных мужей мы можем нечто вам рассказать и показать, относящееся к такому публичному слову. Известно, что древние трибуны были именно учителями жизни. И демагоги, т.е. водители народа, вожди народа, не были ни софистами, ни циниками, но они заставляли себя уважать своей чистой и добродетельной жизнью, насколько добродетельными могут быть язычники. Поэтому слово их всегда воспринималось народом как слово жизни, слово действенное, действующее. Оттого и слово "поэт" по-гречески, как мы говорили, переводится как "человек, свершающий нечто, изменяющий", а не просто на ветер бросающий слова.
Из античных риторик мы узнаем о триединой задаче, которую ставили перед собой трибуны. Вот посмотрите, какая у них была благородная задача.
Первая составляющая этой задачи выражается латинским глаголом "docere". "Docere" – значит "учить". Откуда пословица: "docendo discimus", т.е. "уча, сами учимся". Нужно просвещать не ведущих истины, нужно запечатлевать истину в уме человеческом. Вспомним слова о. Иоанна Кронштадтского: истина весьма проста. Для нас истина – это Бог, и истинно все то, что ведет к Богу, а путь к Богу совсем не сложный, не усложненный. Путь к Богу чужд умствований, путь к Богу лежит не через силлогизмы, не через хитросплетенные доказательства. Стало быть, слово об истине – это не слово Гегеля, не слово Канта, которых без особенной подготовки, без специального научного аппарата и читать-то почти невозможно. Но истина должна являть себя в простоте, истина должна быть доступной.
Поэтому, если вы хотите, чтобы слово было учительным, чтобы оно действительно отпечатлевало образ истины в уме, то ему должны быть свойственны определенные качества. То, что святитель Игнатий Брянчанинов называет "определительность" – ясность понятия в противоположность сбивчивости, сложности. Слову должна быть свойственна простота. Как истина проста, так и слово настоящее всем доступно. Наверное, такому слову должна быть свойственна и последовательность, в противовес хаотичности, сбивчивости. Как дорога, уводящая к горизонту, не может помешать, а помогает достичь цели, так и слово пусть не заставляет слушателя блуждать по закоулкам вашего усложненного сознания. Безусловно, это первое качество нашего слова обращено к уму человека. Но этого мало.
Слово, по убеждению античных мудрецов, еще и призвано касаться вашего сердца, области чувств ваших. И здесь перед нами стоит задача "delectare" – усладить ваше сердце. Усладить не в смысле – сказать нечто льстящее падшим вкусам публики, а в смысле – убедить ваше сердце своей внутренней и внешней красотой, чистотой, достоинством.
Мы знаем, что древние много работали над стилем. Это то, что относится непосредственно к нашему предмету. А вот святой апостол Павел называет себя невеждой в слове (2 Кор. 11, 6), имея в виду, что он не заботится о внешних достоинствах слова. И слово мое, – говорит он, – и проповедь моя не в препретельных человеческия премудрости словесех, но в явлении Духа и Силы (1 Кор. 2, 4). Т.е. проповедь должна воплощаться не в тех словесах, которыми препираются между собою мудрецы века сего, или, как в русском переводе того же места сказано, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией (1 Кор. 2, 4-5). Т.е. Сам Дух Божий, который, по слову преподобного Серафима Саровского, "радостотворит" все, к чему прикасается, конечно же, и слово формирует в соответствии с законами красноречия. Слова, пронизанные благодатью Духа, прекрасны и совершенны, существенны и содержательны. Дух Божий дарует христианину зрелую пшеницу мудрых мыслей, предоставляя непокорным Евангелию умножать плевелы собственного скудоумия.
И вот оказывается, что слово обращено к сердцу и воздействует на сердце, может быть, отчасти, как музыка воздействует. Власть музыки над сердцем – это власть гармонии, красоты, лада, созвучия, которым невольно покоряется душа, созданная по образу и подобию Божию. А в душе ведь есть это стремление к красоте – одно из Божественных совершенств. Человек, созданный по образу Божию, всегда эту красоту ищет, невольно ею любуется. Существо нравственное и жить хочет красиво, не в смысле обеспечения материального, как говорят, красиво жить не запретишь, – а в смысле достоинства своих слов, поступков и мыслей.
Наверное, одна из наших задач – это овладение таким красивым, гармоничным словом, которое врачует даже внешними своими достоинствами, а при наличии его духовного качества слово действительно оказывается исцеляющим душу современного человека, пораненную, искалеченную, такую душу, о которой один из известных писателей сказал: в аду порядка не ищи. И если проповедующий сам не имеет вкуса к слову, не чувствует своего слова, никогда и не задумывался, какие лексические средства он употребляет, и вообще каков его багаж словесный; если он никогда не изучал синтаксиса, морфологии и грамматики, а как выучился с детства говорить, так и говорит – то, конечно, ему невдомек, что, допуская явные грамматические ошибки, вступая в противоречие с принятыми литературными нормами языка, путая спряжения, склонения, ставя слова в каких-то чудных падежах (называя, например, "мышь" – "мышом"), он может много повредить своему слову. Хотя, конечно, по большому счету, православные студенты ему это прощают охотно, если мышление у него православное. Но для нас с вами задача словесного услаждения является очень даже немаловажной. Отметим, что в нынешний век почти никто из людей говорящих не думает и не заботится об этом, разве что только те, кто себя осознают такими творческими личностями: поэты, писатели. Но зато им, если они не православные люди, конечно же, соотношение этих задач не очевидно. Они приносят содержание в жертву форме, и, таким образом, слова их становятся пустым звуком.
Наконец, третья составляющая триединой задачи, пришедшей к нам из античных времен, выражается латинским глаголом "movere", по-английски "move" – двигать. Слово обращено не только к уму и сердцу, но и к воле человека, деятельной способности души. Истинное слово, о котором мы говорим, – сильное слово. Оно, конечно же, насыщено энергией благодатной жизни, энергией добра, любви, той энергией, которой и свершаются благие дела, достойные Господа Бога. Об одном слове мы говорим: безжизненное, вялое слово, а о другом говорим: сильное, действенное, которое побуждает человека исполнить слово, жить по нему. И на самом деле, искусство речи только во вторую, а может, даже и в третью очередь состоит в том, чтобы delectare – услаждать сердца. Но прежде всего за этой дисциплиной стоит жизнь говорящего. Если сам он не подвижник, хотя бы немного, если сам он не двигается в нужную сторону, то какой толк будет от всех его ученых штудий? Потому что наполнить слово энергией добра можно, лишь живя по заповедям Господним, которые суть истинное благо для исполняющего их.
Какова природа воздействия слова, исполненного жизни? Это воздействие не насилует, как и благодать не насилует. В этом отличие проповеди от пропаганды, благовестия от агитации. В этом отличие истинно духовного слова от слова, исполненного обыкновенной земной силы, психологического нажима. Таким психологическим нажимом владеют, например, люди, которые прошли курс рекламного агента. У них задача, например, заставить вас купить именно "Лесное" мыло, а не "Земляничное". Также какой-то особой силой насыщено слово цыганки. Хотя цыганки еще и ловкостью рук обладают, но совершенно очевидно, что и в слове их заключено что-то темное, магическое, обезоруживающее даже опытных, кажется, в житейском отношении людей, которые, словно безвольные куклы, отдают этой случайно встретившейся немытой, нечесаной гадалке свои месячные сбережения.
Но мы более о цыганках говорить не будем, от них надо держаться подальше, а вот надлежит сказать, что на духовном поприще, к сожалению, очень часто можно встретить подмены как раз в области movere, т.е. в области внутренней силы слова. Очень часто проповедники, в своем роде опытные, пользуются запрещенными приемами, т.е. изучают каким-то образом падшее человеческое сердце или, действуя непосредственно по наущению лукавого, стараются воздействовать на слушателя и ввести его в состояние безгласия, бессловности, каким-то образом подавить, подчинить себе волю слушателя. Это сущие разбойники, о которых сказано: не входяй дверьми во двор овчий, но прелазя инуде, той тать есть и разбойник (Ин. 10, 1). Т.е. идут к слушателю не с открытым сердцем, не к сердцу обращаются, а пытаются просто подавить критическое восприятие, каким-то образом привести слушателя в состояние нравственного паралича. Этим владеют сектанты, безусловно, все масти, их великое множество. Но как владеют? Им бесы помогают, если им еще и от природы даны какие-то риторические способности, владение аудиторией, педагогические навыки, умение работать с массами.
Встречается это и среди нас, православных. Иногда человек то ли по властолюбию, то ли по гордыне или по каким-то другим внешним, земным мотивам, так говорит слово, что вызывает скрытое сопротивление у духовно опытных или у людей с чистым сердцем. Одно с другим здесь, конечно, сочетается. Бывает, что и человек, совсем не посвященный в опыт духовной жизни, почему-то не принимает слова, что-то ему не нравится в говорящем. Бывает, что человек, хотя сам и не имеет истинного смирения, но он уже стреляный воробей, его на мякине не проведешь. И поэтому он способен некоторым сердечным чувством взвесить нравственные достоинства говорящего, никак его, безусловно, не судя, что было бы грехом.
Мы уже говорили с вами о том, что словом выявляются личные качества. Проповедующий сам о себе все расскажет, хотя бы говорил и о других, даже на отвлеченных примерах. Так вот, то слово, которое насыщено энергией добра, то слово, за которым стоит деятельная жизнь, т.е. личное покаяние, молитвенная обращенность к Богу, сопротивление злу, трезвение, целомудрие сердечное – такое слово, конечно же, в принципе чуждо какой-либо агрессии. Это слово охотнее устремляется к Богу, чем к людям. Это слово, при всей его насыщенности добром, никак не посягает на человеческую свободу. Это слово уподобляется благодати Божией. А благодать Божия никогда не ломает человека, никогда не действует без него. Но благодать лишь возбуждает, располагает, являет образ истины, предлагает свою помощь и... ждет ответного шага. Тогда и происходит соработничество немощи человеческой и силы Божией. Как, скажем, замерзший путник может почуять тепло и тотчас повлечется в дом, где жарко натоплена печь и потрескивают дрова; или заплутавший в темноте устремится на огонек; или оголодавший почует запах здоровой и сытной пищи – так вот и Божья благодать не строит никаких миражей, не прельщает, не обманывает, но делает все от нее зависящее, чтобы слушающий сам захотел войти, склониться к этому оазису живой воды и от него черпать.
Вот, коротко говоря, пополненное нашим христианским размышлением учение античных риторов в его очищенном и облагороженном виде, которое, мне кажется, очень пригодно для слушателей Богословского института. Что, между прочим, из этого следует? Из этого следует, что обращение к людям – дело весьма и весьма ответственное, к которому надо готовиться, и готовиться не столько в смысле изучения соответствующей литературы, сколько в смысле вашего нравственного, духовного состояния.
Бывает, что человек, нагрешив, лишается дерзновения в слове, лишается легкости слова, лишается силы слова, потому что он не носит в своем сердце мира Христова, не чувствует свободы от страстей, осознает себя побежденным, а не победителем злобы мира сего, и поэтому предпочитает молчать. Только если спрашивают, кратко что-нибудь ответит. Как ему проповедовать и мыслями делиться? Что я такая-этакая за птица, чтобы еще чем-то делиться? Помните, как Молчалин у Грибоедова говорил: В мои лета не должно сметь свое суждение иметь?5 Суждения-то у него были, но он сознавал всю их низость и поэтому предпочитал молча, втихую добиваться своего. А тот, кто проповедует, он весь на виду. И поэтому даже малая нечистая мысль, сокрытая в глубине души, может внезапно проявиться в его речи и наказать такими последствиями, какие надолго оставят его позади молчалиных.
Лучшей подготовкой к общению с людьми является частая исповедь, Причащение Святых Христовых Тайн и молитва. Скажем, святой праведный Иоанн Кронштадтский, который все время был с людьми и на людях, умудрялся уединяться на полчаса, на 40 минут, на час. Как говорят его биографы, он освежал свои внутренние силы молитвой к Богу и чтением Священного Писания. Когда мы читаем Писание, то, как известно, Сам Бог беседует с нами, а когда мы молимся – мы беседуем с Творцом. И по опыту можно сказать (по опыту тех, кто проповедует), что в личном общении с аудиторией нам куда больше помогает малое молитвенное уединение, чем лихорадочное подчитывание, перечитывание, желание ухватить будто бы недостающую нам информацию. Студенту это, конечно, привычно, коль скоро он должен сдать экзамен и ждет счастливого билетика, но педагогу, учителю, воспитателю, безусловно, радеть нужно о вот этих качествах сердца. Тогда Бог и слово ему даст. Как говорил святитель Тихон Задонский: любовь найдет слова. Любовь ко Христу и, соответственно, любовь к людям научит вас, что и как сказать.
Теперь мы с вами обратимся к Новому Завету и из него извлечем некоторые свидетельства, касающиеся речений Христа Спасителя.
Речения Господа нашего Иисуса, безусловно, недосягаемо высоки. И мысль о подражании им может быть даже греховной. Богу подражать невозможно. Но все-таки для себя нечто полезное и ценное мы, безусловно, должны усвоить. Вспомним, как на празднике кущей многие из народа уверовали в Него, а фарисеи, услышав об этом, послали своих служителей, чтобы схватить Его (Ин. 7, 32). Но никто не смог наложить на него рук. И когда служители возвратились к первосвященникам и фарисеям и те спросили: Для чего вы не привели Его? – то служители (их было несколько, и, видимо, среди них были простые и совестливые стражники) отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек (Ин. 7, 46). Их сердцам, стало быть, Бог открылся в слове. Благодать Божия проникла в сердца этих стражников именно через слово. Они узнали Бога в Его слове. Души, созданные по образу Божию, обрели первообраз, услышав слово Господне. Наверное, то же испытала одна из учениц Христовых, когда Господь воскресший назвал ее по имени: Мария! (Ин. 20, 16). То же, наверное, испытал и Матфей, сидевший на мытнице у сбора пошлин, когда услышал Его слова: следуй за Мною (Мф. 9, 9). И многие, и многие другие.
Это значит, что слово Божие созвучно человеческой душе. Душа узнает это слово как единственное, неповторимое, неподражаемое. Душа понимает, что это слово обращено к ней, что это именно то слово, которого она ждала, которое ей нужно. О чем и апостол Петр сказал: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, – а по-славянски еще весомее: Глаголы живота вечнаго имаши (Ин. 6, 68). Стало быть, христианский проповедник, сознавая всю свою ограниченность, и более того, греховность, должен быть немного душеведцем. Он должен в глубинах сердца сам задаваться вопросом: а что им нужно? Что я могу им принести, даровать, открыть?
Часто, когда мы слышим лекции на духовную тематику, мы и по собственной косности, и по общей всем нам ограниченности не узнаем слова Божия. Оно едва-едва касается нашего сознания, иногда, может быть, и сердца. Остается какой-то зазор. Почему так? Потому что и лекции, и книжки на духовную тему часто совсем не ставят перед собой цели спасения души слушателя или читателя. Автор, может быть, хочет продемонстрировать ведение или приобщить к ведению многосложных церковных и околоцерковных знаний из истории Церкви, церковного обряда, пытается осмыслить ту или иную часть богослужения. О спасении собственной души он слегка подзабыл, а задачу спасения душ читателей – и вовсе не ставит перед собой. Он сам чего-то ищет и хочет, чтобы и читатель вместе с ним искал, а найдет ли – Бог весть. А бывают книжки, в которых все уже найдено, в них сокрыт Сам Христос. Читаешь книжку о. Иоанна Кронштадтского, и она попадает прямо в глубину души, в десятку бьет, хотя надо и самому потрудиться основательно, вчитываясь и вдумываясь в ее содержание. Потому что автор вложил в нее гораздо больше усилий, чем полагает иной читатель, не привыкший трудиться над усвоением текста. Зато уж если вчитаешься, то обретешь корысть многу (Пс. 118, 162). Такую книжку прочитаешь – как свежей воды напился. А иной ученый богословский труд начнешь читать – и чувствуешь себя разбитым, как будто бы спал на лестнице и без одеяла. А книги все духовные писаны лицами духовного звания.
И вот слово Господа таким образом обращено к совести человека, что душа говорит: "Я знаю, кто ты. Ты пророк". Как сказала женщина-самарянка: Господи, вижу, что Ты пророк (Ин. 4, 19). Это слово заставляет нас взвешивать на весах Божественной правды и любви свою жизнь. А бывают книжки, которые мы читаем, и ничего не взвешивается, даже если б ты пожелал, но только чувствуешь свою растерянность перед обилием терминов, громоздким научным аппаратом и подавляешься ученостью писателя.
Итак, истинное духовное слово всегда обращено к живой личности, оно чуждо формализма, чуждо "научной объективности", истинно живое слово всегда имеет целью спасение человеческой души, но не напрыгивание, не наезд на душу. Это тоже надо знать и понимать. Истинное слово имеет способность ломать все перегородки, все условности человеческого общения. Одна условность – лекция, другая условность – научный доклад, третья условность – круглый стол, четвертая – интервью. Слово не вяжется никаким жанром устного творчества, такое слово действительно обезоруживает человека. Он сдается без боя этому слову, потому что чувствует в нем то родное, святое, понятное, спасительное, чего он даже не ожидал найти.
Давайте мы с вами найдем в Евангелии еще несколько свидетельств. Возьмем, например, свидетельство евангелиста Матфея, завершающее Нагорную проповедь: И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи (Мф. 7, 29). И точно так же в Капернауме, по свидетельству евангелиста Луки, когда простые галилеяне делились между собой своими впечатлениями о Нем, то дивились учению Его, ибо слово Его было со властию (Лк. 4, 32).
Со властию! Почему так воспринимали слово Господа? Ясно, почему. Прежде всего потому, что слова Христа суть действие. Как сказано: Яко Той рече, – и быша; Той повеле, – и создашася. Или по-русски: Ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось (Пс. 32, 9). И рече Бог: да будет твердь посреде воды... И бысть тако, т.е. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так (Быт. 1, 6). Итак, слово Господа есть творческий зиждительный глагол, который творит новое бытие или новое качество бытия. Сейчас, когда мир уже сотворен, шесть дней уже прошли, седьмой еще не кончился, а восьмой грядет, главная область строительства, зодчества – это душа человеческая, а главный инструмент зодчества – это слово человеческое. А душа – она драгоценнее всего мира.
Народ говорит, что Он учит их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Что это значит? Книжники и фарисеи были начетчиками, они с детских лет изучали закон – Тору, пророков, толковали этот закон, изучали толкования, Талмудическое творчество, но их знание было внешним. Духа-то они и не имели. Если бы они из Писания заимствовали дух, то не распяли бы Господа Славы, Того, Кто даровал им Писание. Оказывается, внешность они изучали, а против содержания – погрешали. Соответственно, их упражнения в слове Божием, их поучения носили схоластический характер, в этом не было жизни. А имели-то под руками золото, сидели на куче золота и от голода умерли.
Часто и у нас экзамены могут превращаться в нечто противоположное духу Евангельскому. Конечно, сдающему курс по Новому Завету нужно знать Евангелие близко к тексту. Наверное, неплохо знать, сколько раз у евангелиста Луки употреблено слово "Капернаум", а сколько – у евангелиста Матфея (оказывается, что у обоих оно упоминается четыре раза, но в двух случаях – это параллельные места, а в двух других внимание к данному слову позволяет извлечь новую информацию). Но что хорошего может получиться из такого сражения между экзаменаторами и экзаменуемым, этого поединка памяти и забвения?
Кроме того, нам с вами важно помнить эти слова: учил как власть имеющий. Несомненно, власть имеет тот, кто исполняет написанное в Евангелии. Говорить о Евангелии со властью будет тот, кто прежде сотворил, а затем и других научил. Таковой великим наречется в Царствии Небесном (Мф. 5, 19). Если ты сам научился не осуждать, действительно научился или, во всяком случае, замечаешь, когда в тебя помысел осуждения входит, и сразу встрепыхнешься и покаешься, то ты уже сумеешь объяснить: Не судите, да не судимы будете (Мф. 7, 1). Или, например, Господь говорит: Аз же глаголю вам, яко всяк, иже воззрит на жену ко еже вожделети ея, уже любодействова с нею в сердцы своем (Мф. 5, 28). Т.е. всякий, кто смотрит на жену (ближнего своего) с вожделением, уже прелюбодействует в сердце своем. Если ты не допускаешь нецеломудренных помыслов и чувств, а противишься им, изгоняешь их, то тогда тебе дано говорить о заповеди: Будите... мудри яко змия, и цели яко голубие (Мф, 10, 16), т.е. будьте мудры, как змеи, и чисты, как голуби. Таким образом, власть имеет, очевидно, тот (и это относится к movere!), кто получил благодать жительства по Евангелию. Вот что сокрыто в основании проповеди, проявляющейся в явлении духа и силы (1 Кор. 2, 4).
Когда Господь наш Иисус Христос учил в храме, когда объяснял, как следует понимать пророчества, в частности, о том, как сам Давид называл Христа Господом, то множество народа слушало Его с услаждением (Лк. 12, 37). С услаждением. Почему Его слово о ветхозаветных пророчествах имело свойство услаждать? Потому что Спаситель так знал закон, давал такое разумение закона, о котором Его слушатели и не слыхивали. Разумение закона всецело было приноровлено к сердцам слушателей и касалось каждого из них. Высокие истины Писания, оказывается, соотносятся с внутренней жизнью каждого из нас.
Поэтому Господь говорит ученикам: ...всяк книжник, научився Царствию Небесному, подобен есть человеку домовиту, иже износит от сокровища своего новая и ветхая (Мф. 13, 52). Это значит, что всякий книжник, научившийся, т.е. исполнивший заповеди, данные в Священном Писании, износит из сокровищницы сердца своего ветхое и новое, т.е. истины Ветхого и Нового Заветов. Народ потому с услаждением слушал Христа, что ветхое и новое Господь износил из глубины своего сердца. Господь есть Сам Евангелие, слово Творца Всеблагого, Всемогущего и Всемудрого.
А для нас это значит, что наше слово должно зиждиться, основываться на Священном Писании или, что то же, на истинах Откровения. Но эти истины Откровения составляют не головное знание, не отвлеченное, рассудочное запоминание, а нечто претворенное и переплавленное в сосуде сердца. А еще можно сказать, что, когда дух Писания или Сам Христос вселится словом Своим в сердце человека, тогда и истины Писания будут им преподаваемы, передаваемы духовно с назиданием для слушателя. Мы, так сказать, не в чистом виде Ветхий и Новый Завет преподаем, а мы его преподаем через сердце наше воспринятым и усвоенным, как Христос хлеб апостолам предложил, а те уже его преломляли и в пустыне сидящим подавали.
В преподавании Священной Истории, ну и, конечно, истории Церкви, главная трудность – вовсе не методическая. Как преподавать Священное Писание Ветхого и Нового Завета? В какой последовательности? Или, может быть, давать объединенный курс Ветхого и Нового Завета? Что взять из Священного Писания, а что опустить? И прочее, и прочее. На самом деле, если дух Ветхого и Нового Завета является и твоим духом, хотя бы отчасти, если ты действительно соприкасаешься с этой святыней Бога, живущего в Писании, то тебе никаких пособий и книжек не понадобится, чтобы Священное Писание преподавать той аудитории, которая этого от тебя ждет. Ибо мудрый книжник не из конспекта и не из пособия (вернее, в первую очередь не из них), а из сокровищницы сердца своего выносит ветхое и новое. Т. е. проповедующему дается разуметь Писание применительно к аудитории, дается изложение истин Писания с нравственной пользой именно для этих слушателей, а не каких других.
Священное Писание подобно манне, а манна, как сказано в книге Премудрости Соломоновой, в удовлетворение желания вкушающего изменялась по вкусу каждого (Прем.16, 21), т.е. приобрела вкус той пищи, какая желалась вкушающему в тот час. И народ потому слушал с услаждением Господа, что беседы Спасителя, основанные на пророках, изъясняли, растолковывали, делали понятным все, что именно тем слушателям было непонятно, и это слово разрешало все их недоумения, отвечало на все неразрешенные дотоле вопросы. И именно поэтому Его слово могло и научить (что соотносится с docere), и реально приблизить к спасению души. Мне кажется, что в этом самое главное. Соль духовного преподавания в том, чтобы вы имели задачу не просто свой курс изложить, как вам в вашем кабинете заблагорассудилось или как вам велели. А ваша задача воспитать, нравственно укрепить, так сказать, сделать плодоносными сердца слушателей с помощью Писания апостолов и пророков, открыть их навстречу Царствию Небесному. Так задача услаждения (delectare) соединяется с задачей научения (docere) Царствию Небесному, имеющей целью своей спасение души.
А когда слушал Господа народ с услаждением о пророчествах, то далее Он говорил им в учении Своем: Остерегайтесь книжников, любящих... принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах (Мк. 12, 37-39). Это слово тоже услаждало, потому что в нем была правда об учителях-ханжах, о чем сами книжники и фарисеи никогда бы им не сказали. Такое мог сказать только Тот, кто Сам был выше их в нравственном отношении, и поэтому имел власть судить о них. Таким образом, слово действительно услаждающее, слово правды имеет власть над сердцами слушающих, и поэтому утверждает, возбуждает в них веру, подвигает к изменению, ведет за собой. И в этом смысле задача услаждения (delectare) соединяется с задачей побуждения к подвигу (movere) словом, сказанным со властью.
Наконец, свидетельство о том, что народ с услаждением принимал слова Господа, говорит и о внешнем достоинстве Христова слова. У академика С. С. Аверинцева есть попытка восстановить проповеди Господа в их исконном арамейском звучании. И оказывается, что слова Христа насыщены такими музыкальными по форме сопоставлениями, что получается игра слов, где смена гласных (там гласных-то в арамейском немного) и согласных представляет собою удивительно тонкие по смыслу различия. Внешне сходные по звучанию слова дают противоположный смысл, и речь Спасителя представляет собою нечто неподражаемое на родном для слушателя языке.
Внимательно изучая творения Святых Отцов, толковавших Ветхий и Новый Заветы, мы поражаемся глубине их проникновения в ткань Священного Писания. Так, например, о глубинных смыслах библейских текстов очень хорошо рассказано в известном труде епископа Варнавы "Основы искусства святости". И мы сейчас кратко обобщим то, что выведено из исследования Библии.
Первый смысл буквальный: разуметь то, что написано. И отнюдь не легкая задача современному христианину познакомиться со всеми реалиями Священной Истории, особенностями языка Священного Писания, что, конечно же, отразилось и в лексике, и в синтаксисе церковнославянского и отчасти русского текста. Святые Отцы настаивают на необходимости ясно разуметь заповеди Божии. И понятно, почему. Если речь Господа Иисуса Христа остается для нас туманной, не всегда ясной, то как мы можем исполнять слово, вышедшее из уст Спасителя? Для понимания буквального текста Священного Писания нужно много трудиться, привлекая святоотеческие истолкования. Так, например, для любящих погружать свой ум в море Божественной мудрости очень хорош для понимания всех уровней Писания святитель Феофилакт Болгарский. Это был преданный ученик святого Иоанна Златоустого, хотя их отделяло друг от друга не менее шести, а то и семи столетий. Книга епископа Феофилакта Болгарского "Благовестник", переизданная сегодня в четырех аккуратненьких маленьких томиках, просто сокровище для студентов Богословского института. Без преувеличения можно сказать, что тот, кто возьмет на себя труд вжиться в истолкования Святого Отца, Бог даст, обретет ключ к пониманию текстов. Изменится и язык такого прилежного читателя, коль скоро слово блаженного Феофилакта отчасти станет его словом.
Примеры разумения или неразумения Писания следующие.
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта (Мф. 5, 25-26). Эта знаменитая притча Господа Иисуса Христа должна быть понимаема ясно и определенно. Без помощи Святых Отцов можно немало дров наломать, сделать погибельные выводы в своей собственной духовной и нравственной жизни. Между прочим, об этот текст Писания преткнулся Запад. И вывел из него уродливейшее и по существу богохульное учение о чистилище. Между тем как весь сонм восточных Святых Отцов однозначно говорит, что разуметь надобно так: как не имеет возможности посаженный в долговую яму за себя ничем заплатить, даже полушку, так никогда не выйдет из темницы заключенный в нее за вражду с соперником, с собственной совестью. Эта мысль подтверждает учение Господа о райском блаженстве и вечных, нескончаемых мучениях.
Или сходное место Послания к Коринфянам апостола Павла, которое истолковывает нам вселенский учитель Церкви святитель Василий Великий. Каждый смотри, как он строит, – говорит апостол Павел.– Никто не может положить иного основания духовного и душевного домостроительства, кроме Господа Иисуса Христа. Но каждый строит из различных материалов. Кто из золота, кто из серебра. А кто из дерева, а кто из соломы. В последних двух случаях дела его сгорят в день испытания. Но сам спасется. Впрочем, как бы из огня 6. Таинственное место апостольского послания, служащее подтверждением слов Господа: Всякой жертве надлежит огнем осолиться в день Страшного суда (Мк.9,49). То есть прочность духовного домостроительства будет испытана в тот великий и страшный день. Что же это значит – дела его сгорят, а сам спасется? Впрочем, как бы из огня. Если ты не знаешь святоотеческого истолкования, то воспримешь худую мысль, будто бы порочные дела, сотворенные грешником, будут уничтожены, а он сам помилован. Нет, текст Священного Писания сложнее и страшнее в понимании его. По святым, а значит, и по апостолу Павлу, сгорит нечестивая, грешная жизнь. Ибо соблазнам и злым делам надлежит первыми быть вверженными в озеро огненное. Но и несчастный грешник, телесное естество которого было восстановлено силой Божией, соединившись бессмертною душою с бессмертным телом, будет вечно пребывать в огне. А в словах: сам спасется, – речь идет не об избавлении от мук, а о нерастленности и неуничтожимости человеческой природы. Дела-то сгорят, а грешник бедный будет вечно погружен в этот пламень, вечно будет им сжигаем. Но не будет уничтожаем. Вот какой страшный, ясный догматический смысл Писания мы должны извлекать с помощью Святых Отцов.
Возьмем более простые случаи. Например, понимание текста Писания, в котором рассказывается о проклятии Господом смоковницы. Вы помните этот рассказ: Господь хотел насытиться ее плодами, но не нашел на ее ветвях ни единого, ибо было не время собирания смокв. И Он рек: Да не будет же впредь от тебя плода вовек (Мф. 21, 19). Опять-таки невежественный читатель может всячески искушаться, не понимая буквального смысла. Однако, вникая в реалии Писания, мы узнаем, что не раз, а два или три раза в год на благословенной земле Израиля плодоносят растения. И всегда, помимо нового урожая, на деревьях сохраняются еще остатки старого. Даже закон повелевал сборщикам урожая оставлять немного плодов на ветках ради дел милосердия. Так вот, Спаситель проклинает эту смоковницу. Хотя еще не настало время собирания смокв, однако старые плоды должны были остаться. Но смоковница отличалась полным бесплодием. По преданию Святых Отцов, Господь, милосердствуя, нашел такое дерево, которое было подточено жучком-долгоносиком, короедом или еще каким-то вредителем и само в себе уже было обречено на усыхание. Вот над этим-то уже почти иссохшим деревом, палкой, Господь и явил Свое правосудие, праведный гнев в назидание людям.
Безусловно, не меньшую сложность представляют собою притчи, которые соотносятся с реалиями первого столетия и рассчитаны на моментальное узнавание содержания, заключенного в них. Сколько нужно благой дотошности, сколько нужно любознательности, сколько любви к Писанию, чтобы все темные, неясные для нас места высветить с помощью Святых Отцов.
Вспомним притчу о неверном управителе, запечатленную евангелистом Лукой. На того управителя было донесено, что он расточает имение своего хозяина, и ему грозила отставка от дел. Тогда он подумал: что делать? Копать не могу, просить стыжусь. Впрочем, знаю, как поступить, когда буду отставлен от управления домом. И он призвал должников своего господина и сказал каждому по очереди: "Сколько ты должен господину моему?" – "Сто мер пшеницы". – "Пиши: пятьдесят". "А ты сколько?" – спросил другого. "Сто мер масла". – "Пиши: восемьдесят". Похвалил господин неверного управителя и сказал ему: "Да, сыны века сего догадливее сынов света в своем роде". "И Я говорю вам, – обращается Спаситель к слушателям, а преимущественно это были фарисеи, – приобретайте себе друзей богатством неправедным (или, как сказано в славянском переводе, "сотворите себе други от мамоны неправды"), чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве были неверны, то кто поверит вам истинное? И если в чужом были неверны, то кто доверит вам ваше?"
Надо заметить, что малым тут называется земное богатство, так как оно поистине мало и скоропреходяще, а многим – богатство небесное.
Если ты не будешь специально готовиться и читать Святых Отцов, изучать истолкование этого места, то тотчас же засыпешься при первой беседе со студентами о предметах духовной жизни. Поэтому нужно понимать и конкретное, буквальное содержание этой притчи. Нелишне знать, что управитель, который подряжался на работу и брал ответственность за хозяйственную часть имения, вступал с господином в договорные отношения. И при заключении сделок с торговцами от имени господина, отпуская сто мер пшеницы, сто мер масла, он имел кровный интерес. А именно: определенную долю от возвращенного должником – двадцать процентов или даже половину забирал себе. Все это письменно оформлялось. Испугавшись неминуемой отставки, домоправитель призывает должников и не просто чужими руками делает добро, но отказывается от собственного долевого участия, являя, таким образом, полное бескорыстие в этих взаимных отношениях. За что и похвалу получает: да, догадливо поступаешь. То есть, хочешь, чтобы гнев господина сменился на милость, хочешь вернуть добрую репутацию, доброе имя, показывая свое бессребренничество.
Ну а что же сама мамона неправды, неправедное богатство? Неужели мораль этой притчи такова, что Господь разрешает неправедно что-то приобретать, дабы затем праведно раздавать неимущим? Конечно, фарисеев можно было и в этом укорить. Но по единодушному разумению данной притчи Святыми Отцами, неправедное богатство вовсе не есть плод похищенного или приобретенного через лихоимство. Неправедным всякое богатство, движимое и недвижимое, самые душевные наши силы, то есть таланты душевные названы потому, что Бог является их истинным Владельцем, что Богу каждый из нас обязательно даст отчет за все ему вверенное на подержание для правильного перераспределения. Почему апостол Иаков говорит: Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь (Иак. 5, 1-6). Ибо, по святому Иоанну Златоустому, богатство дается человеку именитому не ради него, но ради нищих, в лице которых Сам Христос представляется просящим. Итак, неправедное богатство не есть грешное, греховное, нажитое дурным способом. Но источником любого богатства является Господь. И здесь неправедным называется то богатство, отчет за перераспределение которого мы дадим Господу.
По мнению митрополита Московского Филарета, истинное значение притчи состоит в следующем: "Приставник управляет чужим имением. Подобно сему всякий человек в настоящей жизни пользуется богатством и другими дарами Божиего творения и провидения не как независимый обладатель, но как приставник, обязанный отчетом Богу, Которому единому первоначально и существенно все принадлежит. Приставник, наконец, должен оставить управление и дать в нем отчет пред судом Божиим; подобно и всякий человек с окончанием земной жизни должен оставить то, чем распоряжался на земле, и дать в своих действиях отчет пред судом Божиим. Отставляемый приставник видит, что останется скудным и бездомным; подобно сему и представляемые от земной жизни усматривают, что они скудны подвигами и добродетелями, которые отверзли бы для них одну из обителей небесных. Что делать бедному приставнику? Что делать скудной душе? Приставник имеет надежду быть принятым в домы тех, которым от избытка вверенного ему управления сделал одолжение. Душа, при недостатке совершенства, имеет надежду, что бедствующие и скорбящие, которым она от своего земного благосостояния подавала помощь и утешение, благодатною молитвою веры помогут и ей отворить дверь вечного крова, которую себе отверзают верностью в подвиге терпения".
Но о буквальном смысле библейских текстов довольно. Давайте раскроем и два других смысла Писания. Мы ведь с вами не Новым Заветом занимаемся, а искусством слова духовного.
Кроме буквального, есть еще смысл священно-исторический. Здесь нет ничего удивительного. Многие слова, многие эпизоды Священного Писания проливают свет на всемирную историю. И особенно на священную историю народов. Только у Святых Отцов мы можем научиться проникать в этот смысл, не впадая ни в какие дешифровки, ни в какие крайности, но держась золотой середины.
Например, притча о богаче и Лазаре, который лежал неподвижно пред воротами роскошного дома (Лк. 16, 20-31). Сказано, что богач тот, одетый в порфиру и виссон, веселяся на вся дни светло – то есть роскошествовал, пировал, веселился, в общем, сибаритствовал и ни о чем забот не знал. А несчастный Лазарь лежал весь в гнойных ранах и помышлял о крохах с трапезы богача. Блаженный Феофилакт весьма остроумно замечает, что богач – это образ израильского народа, а Лазарь – образ язычников, сидевших во тьме и сени смертной. Богач одет в порфиру и виссон. То есть израильский народ наслаждается двумя Божественными дарами. Порфира – мантия монарха (а позже и папы римского) – символизирует служение царское, а виссон – тонкая белая драгоценная ткань, из которой шилась одежда первосвященников – богодарованное служение в храме. Притом еще богач веселяся на вся дни светло – то есть ежедневно была приносима жертва об умилостивлении правды Божией, оставлении грехов. А бедный Лазарь лежал, покрытый струпьями. И псы приходили и лизали раны его. Кому-то может показаться, что собачки проявляли милосердие. Нет, на самом деле, тут другой смысл. Справедливо блаженный Феофилакт сравнивает этих хищных голодных псов, как бы питавшихся мертвечиною, с демонами, которые действительно владели языческим миром. По слову Писания, вси бози суть язык бесове. И по существу вся притча может быть премудро истолкована в соотнесении судеб израильтян и язычников.
А вот вам замечательная подробность из Евангелия святого Иоанна Богослова о ловле рыб на Галилейском озере, когда по слову воскресшего Христа его ученики, которые накануне не могли ничего выловить, извлекли из вод великий улов. И было там много крупных рыбин, числом сто пятьдесят три. И конечно, буквальный смысл таков, каков он есть, дабы все поняли, что пишет очевидец события: рыбаки поймали много рыбы. Но есть и смысл священно-исторический. Число три указывает, по разумению византийского Отца, на предмет евангельской проповеди. Это символ Троицы. Число пятьдесят указывает на неполноту: половина, но условная половина. А речь идет лишь об остатке еврейского народа, который уверовал и вошел в новый Израиль, Христову Вселенскую Церковь. Сто – идея полноты, это превосходящее число язычников, которые и составили собою первенствующую Христову Церковь. Весьма остроумное и высокое истолкование.
А возьмем маленькую притчу Господа о закваске (Мф. 13, 33-35; Мк. 4, 33-34; Лк. 13, 20-21). Царство Небесное подобно жене, которая, взяв закваску, положила ее в три меры муки, ожидая, покуда не вскиснет все. Здесь тоже есть священно-исторический смысл. Многие Отцы, в том числе, блаженный Феофилакт, разумели под тремя мерами три периода в истории Христовой Церкви. Первый период (первая мера) – апостольский, когда проповедь двенадцати заквасила Иерусалим и окрестности, а затем и разошлась по всему Средиземноморью. Второй период (вторая мера) – мученический, исповеднический, римские гонения. И третий период – учительский: деятельность учителей Церкви в последующие времена.
Конечно, не во всяком случае нам должно искать этого глубинного священно-исторического смысла. Но большинство притчей Господа замечательно, без всякой натяжки, творчески, духовно Святыми Отцами толкуются применительно к священной истории, к истории ветхозаветной и новозаветной Церкви.
И, наконец, самый для нас важный и глубокий смысл, собственно называемый духовным смыслом. То есть прямо соотносящийся с вашей душой, с вашим рождением, взрослением и созреванием во Христе Спасителе. Иногда этот смысл называют нравственным, иногда, по примеру древних Отцов, – аллегорическим. То есть, не буквальным, а соотносимым с душой христианина. Особенно плодотворно для нас, вникая в словеса Священного Писания, вычленять этот смысл. Притом гораздо лучше он вычленяется через изучение греческого подлинника и, соответственно, церковнославянского текста Писания, пользующегося преимущественным авторитетом. Оказывается, что церковнославянский текст Нового Завета прямо соотносится с церковнославянским текстом Ветхого Завета. Тут существует подлинная симфония и гармония смыслов. В этом легко убедиться при изучении аскетических творений Варсонофия Великого, Иоанна Пророка, святительских поучений митрополита Филарета Московского, Иннокентия Херсонского или толкований на псалмы разных Святых Отцов. Удивительная внутренняя общность языка и самих духовных понятий. Эта общность разорвана и отсутствует при сравнительной бедности, невыразительности, расплывчатости значений в русском тексте Священного Писания. Особенно это касается Ветхого Завета. Почему епископ Феофан Затворник и выказывал свою озабоченность и неудовольствие по поводу этого спешно изготовленного перевода. Он имеет, конечно, свою силу и соль, но все-таки может быть лишь вспомогательным для христианина, который действительно желает проникнуть в мир Священного Писания и получить из него подлинное назидание.
Та же самая притча о закваске, в которой упоминание о трех мерах муки говорит о нашей природе. Ваш дух и душа и тело непорочно в пришествие Господа нашего Иисуса Христа да сохранится, – говорит в одном из посланий апостол Павел (1 Фес. 5, 23). Действительно, закваска – это есть Благодать Господня. Три меры муки – это естество наше, соделанное Господом из праха земного. Вода, употребляемая при заквашивании теста, есть благо, вода Крещения. А медленное восхождение, скисание теста знаменует собою неспешность, таинственность внутреннего духовного роста, заквашивание всех трех составов нашей природы.
Так же и в других притчах, в том числе и вспомянутых мною, вы найдете замечательные проникновения Святых Отцов в природу человека. Например, в той же притче о неверном домоправителе открывается бездна премудрости и назидания.
Для чего, кстати, мы обо всем этом толкуем? Для того чтобы студенты, полюбив Священное Писание и потрудившись в его уразумении, нашли бы неисчерпаемую пищу для собеседований со своими слушателями. А то так на куче золота будешь сидеть и от голода умрешь. А с собой уморишь и собственных детей.
Итак, помните, мы говорили о богатстве неправедном: если вы были в чужом неверны, кто даст вам ваше? Если неправедное богатство не умели распределить, то кто доверит вам истинное? На языке Священного Писания истинное наше богатство – это, собственно, Благодать Святого Духа. Кто-то может спросить: да как же она наша, Благодать, когда мы люди грешные? И дается она нам как дар. А вот Господь так любит человека, что изливает на него Благодать Святого Духа, что свидетельствует о безграничности Божией милости. Только уразумей духовный смысл Писания. Благодать Святого Духа объявляется нашим богатством, чем-то сообразным нашей природе, хотя и поврежденной грехом, но все-таки не утратившей поиск и жажду небесного. Все остальное лишь внешнее, временное. И язык умолкнет, и глаза закроются, и сила оскудеет. А уж нагим вошел ты в этот мир, нагим и уйдешь. Твоей не является даже область творчества и эстетических ценностей, и даже область внешнего доброделания. Но одно-единственное твое: стяжание Святого Духа. В какой мере приобретешь, с тем и пойдешь. Обнищанием названо как раз оскудение всего неправедного богатства, кончина. А вот Благодать Божия – это Божие сокровище, которого мы являемся наследниками по вере во Христа Иисуса.
Очень интересный священно-исторический смысл заложен в притче о милосердном самарянине, под образом которого скрывается Сам Спаситель наш (Лк. 10, 30). Вы помните ее содержание: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили и ушли.
Для начала зададимся вопросом: кто этот раненый, истекающий кровью? Это падшая природа человеческая. Человек-то шел из Иерусалима в Иерихон – с возвышенности в низину. Вот, душа ниспала и была изранена разбойниками – то есть, вступила в общение с демонами, да получила от них уже дополнительные раны. И проходили мимо сначала священник, а потом левит. Это все служители Ветхого Завета. Один из них соотносится с пророками. Левиты – прислужники Божии, которые возвещали, обличали, негодовали, но не могли никого спасти. И, наконец, ветхозаветное священство, которое само нуждалось в очищении. И ценность их жертв была относительная. Они лишь указывали на грядущее искупление в Иисусе Христе. А вот самарянин, идя, как бы наткнулся на израненного и лежащего недвижно человека. Обращаю ваше внимание на тонкость выражений Священного Писания, в нем за каждым словом многое скрыто. Смотрите: те оба шли мимо. А Самарянин нашел на него. Как бы для того и появился, чтобы оказать милость погибающему. Самарянин – Христос Спаситель – возлил на него вино и елей. И это тоже ясные, определительные духовные образы. Елей – образ милосердия Господня. А вино – прообраз Крови Господа Иисуса Христа, излитой ради любви к человеческому естеству. Иные толкователи видят в этом Таинства, врачующие человека в Церкви Божией. Гостиница, куда самарянин отвез раненого – образ храма Господня. Хозяин гостиницы – священнослужитель Нового Завета. Два динария, отданные самарянином, – это духовное разумение Ветхого и Нового Заветов в их единстве, обладая которым пастырь Божий оказывается способным врачевать душевные недуги и струпы человечества. Если что сверх этого потратишь, Я, когда приду, воздам тебе. А что сверх разумения Священного Писания во всей его глубине пастырь может потратить? Это, конечно, собственное усердие, жертвенное стремление служить ближнему, как Христос послужил человеческому роду.
Впрочем, все просвещенные Святые Отцы подмечают, что притча дается Господом не для буквального, дотошного, мелочного ее истолкования. И если заниматься именно расшифровкой, раскодированием Писания, то можно дойти до нелепостей, говорит святитель Феофилакт Болгарский. Но притча через прилежное уразумение ее непосредственного смысла, через соотнесение составляющих ее частей дает некую нравственную мысль, духовную доминанту, которую разумный читатель и должен приложить к жизни духовной. Вычленив главный нравственный смысл притчи, не гоняясь за буквалистским ее истолкованием, должно применить его к законам Царствия Божия. Святые Отцы действительно руководствовались не изощренным интеллектом, не рабским служением букве, но духовным, воистину Божественным разумением Писания. Вот почему нужна такая тщательность, такая любознательность, такая любовь к Святым Отцам, дабы и сам проповедник мало-помалу поднялся на эту творческую высоту и обрел бы деликатность и тонкость в разумении Писания.
А теперь обратимся к Нагорной проповеди Христа (Мф., гл. 5-7), а именно к шестой главе (ст. 16-18), к словам Господа: Егда же поститеся, не будите якоже лицемери сетующе: помрачают бо лица своя, яко да явятся человеком постяшеся. Аминь, глаголю вам, яко восприемлют мзду свою. Ты же постяся помажи главу твою, и лице твое умый (на эти слова мы с вами произнесем проповедь), яко да явятся человеком постяся, но Отцу твоему, Иже втайне: и Отец твой, видяй в тайне, воздаст тебе яве.
Вот она – новозаветная заповедь о посте: Ты же постяся помажи главу твою, и лице твое умый. Спаситель, обличив ветхозаветных постников в лицемерии, укорив их за унылое выражение лица, засвидетельствовал, что ценность истинного постничества – в его сокровенности, удаленности от человеческих взоров и одобрения. Новозаветный пост свершается в радости и веселии духа, внешним выражением чего служит действие, Самим Господом заповеданное. Да, действительно, на востоке к походу по приглашению в гости готовились основательно. В знак праздника гости помазывали елеем волосы и при входе в пиршественную залу омывали лицо в серебряных сосудах. Мы знаем из Евангелия, что состоятельные хозяева даже предлагали приглашенным особые праздничные одежды. Непосредственный смысл заповеди Господа таков, что вступать на поприще поста ученики Христовы должны в бодрости и радости, собранности и трезвении, в веселии духа, налагающем светлую печать на лицо христианина. Может быть, лучшим выражением этой заповеди послужат слова пророка Давида: Мнози глаголют: кто явит нам благая? А затем отвечает: Знаменася на нас свет лица Твоего, Господи! (Пс. 4, 7); Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся (Пс. 33, 6). Но неужели Господь, дававший заповедь о посте во все времена, имел в виду буквальное исполнение ее чрез помазание главы маслом и непосредственное омовение лица водой пред пиршеством? Конечно же, в каждой черте и йоте Писания, по меткому выражению святителя Филарета, сокрыты свет и премудрость. И мы с вами должны углубиться в сокровенный смысл Писания, дабы найти в этой глубине жемчужину истинного разумения. Сейчас многие готовы воскликнуть вместе с Базаровым: "О друг мой, Аркадий Николаевич! Об одном прошу тебя: не говори красиво". И это, безусловно, справедливо. Потому что не в словесах суть, то есть не в человеческой мудрости заученных словес состоит проповедь евангельская. Но в явлении духа и силы. Не должно умалять Крест Христов, принося его в жертву словесным завитушкам. Но с другой стороны, если вы заботитесь о сохранении духа и силы, возгревании их чрез исполнение лично вами же заповедей Божиих, нельзя сказать, чтобы нарочито небрежное отношение к слову было бы достоинством. Дело в том, что слово обладает исцеляющей силой. Оно может и раздражать, как бы карябать наш слух. Может приводить слушателей в негодование, если изобилует элементарными грамматическими, синтаксическими ошибками, лексическими несообразностями. Но то же слово, если оно представляет собою органичную ткань природного языка, обладает колоссальным духовным и нравственным воздействием на слушателей. Ибо в чем более всего заинтересован проповедник? В том, конечно, чтобы возродить сердца своих непосредственных слушателей. А не просто в жанре проповеди оформить некие призывы к решительным и боевым действиям. И последние бывают хороши, когда они подлинно жизненны и не дезориентируют, а ведут к намеченной цели. Но очень часто мы упускаем из внимания (и из понимания) врачующую силу слова. А между тем Господь, как видно из Священного Писания, Своим словом действительно воскрешал, оживотворял людей, как бы наращивал плоть на скелет души. То есть помимо просвещения, знания привносил в сердца еще то умиротворение, ту радость, ту полноту внутренней жизни, которая и является таинственным обитанием Божией Благодати в сердце человека. Поэтому, простите за некоторое лирическое отступление, мы образно сравним постижение сокровенного смысла Писания с обретением ныряльщиком драгоценной жемчужины из глубин океана. Это один из любимых образов святого Иоанна Златоустого, когда он расточал бесчисленные похвалы Священному Писанию. Если образ подан вами уместно и умело, без натуги, без напряга, без какого-то обезьянничества, но органично вытекает из темы повествования – сомнений нет, это слово дает отзвук в сердце человека именно тем, что углубляет в нем восприятие духовной жизни. И весьма часто само по себе прекрасное, важное и нужное слово все-таки оставляет душу не насыщенной. Потому что не обращает ее духовные, творческие силы внутрь нее самой. А между тем, главное наше поприще, по утверждению Макария Великого, заключается в том, чтобы отыскать того змия, который прячется глубоко внутри человека, и попрать его, низвергнуть во ад, обрести господство над ним и над семенем тли в себе. Но такое господство человек не может обрести без Божией помощи. И обретает только чрез изучение своей падшей природы. Что требует колоссального внимания, постоянства, сосредоточенности, рассудительности и прочих добродетелей.
Но посмотрим еще раз на это изречение: Ты же постяся помажи главу свою и лице свое умый. Давайте с вами постепенно и будем рассматривать эту жемчужину, дабы она засияла в наших очах духовных. Помажи главу твою. Кто есть Глава, как не Сам Господь Иисус Христос. Ибо Он, по ясному выражению святого апостола Павла, есть Глава Церкви, Спаситель тела. Все мы дети, рожденные Его Духом. Помазать главу Господа – это значит уподобиться той благочестивой жене, которая, взяв миро, излила его на Христа, воздавая Ему Божескую почесть. Помазание главы Господней свершается двояко – вещественно и духовно. Вещественно помазание Господней главы мы свершаем тогда, когда творим дела милости. Когда на протянутую вам руку кладем кусок хлеба, зная, что в лице нищего брата Сам Христос приемлет милость. Мы умащаем Главу Церкви Христа, когда с сердоболием и жалостью относимся к людям, укоряя себя за собственное несовершенство, страсти, грехи. Но преимущественно помазывается Христос елеем, когда мы воздаем Ему почесть, приличествующую Богу. Когда именуем Его не Сыном человеческим токмо, но Сыном Божиим. Исповедуем в Нем, во всем нам подобном, кроме греха, ипостасно соединенное Невидимое, Всемогущее и Вечное Божество. И лучше всего помазание это свершил апостол Петр, выступив вперед и устами своими исповедав общую веру: Ты еси Христос, Сын Бога Живаго (Мф.16,16). Вот священное духовное помазание, высокое богословие, к которому призывает нас Спаситель, зная, что это богословие, это исповедание и будет для нас камнем веры. И само сердце человеческое сделается каменным, то есть, укрепленное Благодатию Господней, выдержит все искушения от врат адовых. Посему на духовном языке мы помазываем главу свою, когда произносим вслед за апостолом Петром это исповедание, которое должно всегда в нашем сердце пребывать".
Лице твое умый. Некогда древний пророк Иеремия восклицал: Кто даст главе моей воду и очесем моим источники слез! (Иер.9, 1). Не о посторонней какой воде говорит Священное Писание, но о той воде сердечного сокрушения и исповедания грехов, что запечатлена в псалме Давида: Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс.50,19). И эту воду может даровать только Владыка Христос, приглашающий к Себе всякого ученика со словами: Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром (Откр., 22, 17). Вода – символ очищения, омовения нашей падшей природы от грехов и страстей. Соответственно, когда мы произносим слова исповедания, исполненные сокрушения, когда уничижаем себя в прах пред Святостью и Правдою Божества, вот тогда лицо наше орошается невидимой водою покаяния. Помилуй мя грешного. Вот тот желоб, чрез который вода покаяния снисходит и очищает нашу душу от грехов.
Из всего сказанного следует, что истинный пост состоит не во внешнем пощении, не в вытянутости лица, не в искусственной его помраченности и бледности, а во внутреннем духовном делании, запечатленном в молитве Иисусовой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго, грешную. Вода на лицо. Почему и Писание подтверждает нашу мысль, говоря: Сей же род (бесовский: болезни греховные и духи темные) изгоняется только молитвою и постом (Мф. 17,21). Господь же да поможет нам, разумея Священное Писание не по букве только, а и по духу, трудиться на указанном покаянном поприще.
Безусловно, когда мы размышляем о посте, тем для составления слова можно найти столько же, сколько и евангельских сюжетов. Так можно было бы размышлять о посте в свете сказанного двумя евангелистами о трех искушениях Христа в пустыне. Мы помним, что Господь, допустив до Себя злого духа, сокрушил три главных страсти человеческие, корень которых есть самолюбие: неправильная, извращенная привязанность к себе самому. А именно: страсть чревоугодия, или сластолюбия; славолюбие, или тщеславие, и сребролюбие – привязанность к вещественному. И в качестве домашнего задания вам предлагается в соответствии с изложенной темой разобрать молитву Отче наш, найти саму сердцевину и поразмышлять об этом. Хлеб наш насущный даждь нам днесь (Мф. 6, 11). Существует множество истолкований молитвы Отче наш разных Святых Отцов. Но как было бы прекрасно составить небольшую проповедь из двух частей. Одна часть, посвященная прошению вещественного хлеба. Притом, просим насущного, не впадаем в излишества. Отвергаем сразу иску искушение диавола: Рече, да камение сии хлебы будут. Нам не нужны многие хлебы. Мы просим необходимого. А в этом прошении, стало быть, прекрасное исповедание щедрости и милости Христа Спасителя, Его трогательного попечения о ежедневных наших нуждах. В этом прошении – исповедание детской зависимости от Господа: Очи всех на Тя, Господи, уповают. Ты даешь пищу и птенцам врановым. Вот наподобие этих врановых птенцов и мы раскрываем наши клювики, просим со всей преданностью и упованием: Хлеб наш насущный даждь нам днесь. Много тут мыслей возникает о благоговении и трепетной любви создания к Создателю.
Вторая же часть, главная, может и должна быть соотнесена с беседой Господа в синагоге о хлебе небесном: Аз есмь Хлеб, сшедый с Небес. Истинно говорю вам, отцы ваши ели манну и умроша в пустыне. Тот, кто будет вкушать сей Хлеб, не умрет во век (Ин. 6, 35; 41; 49-51). Рассуждение о превосходном небесном брашне, пище и питии духовном, Теле и Крови Создателя. Святые Отцы видят в этом прошении алкание христианином высшей правды, которая одновременно есть и освещение наше, Христос в Его Пречистых Таинах.
Сюда же можно было бы еще малую часть присовокупить о Писании, Слове Божием, которое исходит из уст Господа. Ибо это тоже хлеб, тоже манна. В Писании сказано: Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим; возлюбих заповеди Твоя паче злата и топазия (Пс. 118, 103;127). Получится очень содержательное, духовно ясное, радостное слово, которое действительно учит духовной жизни, не заводя в области заоблачные, и указывает христианину на его насущную задачу: единство со Христом чрез молитву, мольбу о ежедневном. Чрез Писание и назидание в нем. И чрез Божественную Евхаристию. Ваши строчки не должны быть бездумным пересказом толкования. Может быть, даже выскажу пожелание, чтобы вы воедино связали все три подхода к истолкованию Священного Писания.
Читайте творения Святых Отцов, размышляйте над ними и не поступайте по поговорке: жил был Мих и имел сто книг, спал на них, но не знал, что в них.
Раскрывая Священное Писание, изучая Ветхий или Новый Завет, мы, изначально даже не начитанные в книгах Библии, чувствуем и понимаем отличие этих священных, сакральных текстов от, скажем, философской прозы. Мы, прежде всего, отмечаем для себя полнокровность, жизненность языка Писания. Этот язык не ущерблен, не сведен к теоретическим положениям, моральным постулатам, абстракциям, но он говорит и уму, и сердцу, воздействуя на всю целокупность нашего жизненного фона. Отсюда мы делаем вывод, что Дух Святой, дышавший устами пророков и апостолов, определенным образом слагает слова, организует речь так, что она становится доступной и простецу, и мудрецу. Слово Библии обращено ко всякому внимательному и усердному читателю. И многое говорит человеку именно посредством образа словесного, образа художественного, большей частью в жанре притчей или иносказаний. В основе такого образа, который может воплощаться в иносказания или притчи, а может представлять собой и единое слово, лежит, конечно, сравнение.
Спаситель, говоря о Небесном Царствии, говоря о благодати Божией, возрождающей человеческую личность, конечно же, ведал, что слушатели его грубы и косны, что слушателям Его вовсе не так уж удобно и не так уж легко умом восходить к тайнам духовного мира. Да и вообще те, кто побывал там, за гранью земного бытия, т.е. кто вкусил жизни будущего века, признаются: нет на земле таких слов, нет и понятий, выражаемых словами, которыми мы бы могли передать содержание всего увиденного и услышанного там. Апостол был восхищен до третьего неба и говорит: Слыша неизреченные глаголы, ихже не леть есть человеку глаголати ( 2 Кор. 12, 4). Т.е.: Слышал я такие глаголы, о которых невозможно поведать здесь на земле. То же самое и блаженная Феодора высказывала Григорию, ученику Василия Нового по поводу своего странствования к Престолу Божию. То же самое говорила и Клавдия из Барнаула. Многие знают, что случилось с ней уже в двадцатом столетии. Нет, – говорила она, – таких слов, которыми я могла бы выразить все то, что я там увидела и услышала.
Что же, отказаться вовсе от свидетельства? Нет, конечно, но нужно прибегать, как мы уже сказали, к сравнениям. "Всякое сравнение хромает", – говорили античные риторы. Что тень по отношению к самому предмету, то земное слово по отношению к тайнам будущего века. Тайны горнего мира не могут быть изречены, не могут воплотиться, отлиться в земные слова, которые в большей или меньшей степени удовлетворительно отражают предметы земные. В этом смысле, может быть, должно понимать поэтическое утверждение Тютчева: Мысль изреченная есть ложь. Именно в том смысле, что земное слово всегда ограничено и потому ущербно для передачи того, что невидимо. Но, очевидно, когда поэт размышлял об этом, он, наверное, не брал во внимание духовную природу слова. Ведь слово, как мы помним, есть воплощенная мысль. И слову присущ дух, порождающим источником которого является ум человеческий либо ум Божий.
Но вернемся к размышлению о языке. Всегда сравнение между земным и небесным условное, ибо полного тождества, конечно же, между Царством Христа и, например, закваской быть просто не может. Помните, как тот же Тютчев писал:
Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах...
<…>
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, –
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею познаем...
Он как бы утверждал этими словами Божественную установленность гармонии в природе, от которой мы по своему неразумию в погоне за призрачной свободой (т.е. свободой от заповедей) всеми силами стремимся уклониться. А потом, почти век спустя, Николай Заболоцкий написал ему в ответ:
Я не ищу гармонии в природе.
Разумной соразмерности начал
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе
Я до сих пор, увы, не различал.
Как своенравен мир ее дремучий!
В ожесточенном пении ветров
Не слышит сердце правильных созвучий,
Душа не чует стройных голосов.
Удивительное дело: советский поэт пытается возразить поэту прошлого века, но его поэтический и в чем-то пророческий дар приводит его, тем не менее, к сходным выводам. Дальше в этом стихотворении Николай Заболоцкий пишет, что, когда наступает ночь и душа отдыхает от бесплодной игры земного мира противоречий, то, если она действительно любит, – ей совершенно неожиданным образом может открыться и суть боли человеческой, и высокий мир другой души, а через это и Солнце Правды. Может ей открыться Сам Господь, несмотря на всю нашу немощь и, может быть, даже нежелание верить в Него:
Так, засыпая на своей кровати,
Безумная, но любящая мать
Таит в себе высокий мир дитяти,
Чтоб вместе с сыном Солнце увидать.
Но мы не о снах, конечно же, говорим, а о том, что когда душа успокаивается и очищается от трескучей суеты мира сего, то она становится способной увидеть, угадать даже в окружающем нас мире отблеск мира горнего. И тогда постепенно, по наведению, сопоставляя одно с другим, душа, вникая в свойства видимого, восходит к невидимому. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божества, от создания мира через рассматривание творений видимы (Рим. 1, 20). А научиться такому рассматриванию помогают нам библейские образы. Ибо образы Священного Писания – земные. То есть, предметы, всем хорошо знакомые, всеми хорошо изученные, но описанные словом, исшедшим из уст Спасителя или апостолов и пророков Его, подобно персту указующему, наводят мысль внимательного слушателя или читателя на главный предмет речи: на тайны Божьего Царства.
Вникая в существенные свойства семени, вырастающего в дерево, виноградной лозы, приносящей во время свое спелые ягоды; изучая солнечное светило, которое всходит над горизонтом и дарит миру свет и тепло, поддерживая жизнедеятельность тварей, – мы путем умозаключений, а лучше сказать, благодаря интуитивному чувству и жажде веры постепенно восходим по лестнице Богопознания к постижению надсущного Бога и тех нравственных законов бытия, следуя которым мы вступаем в общение с Небесным Отцом. Стало быть, светлый взгляд на действительность действительно позволяет нам ощущать тайну тварного мира, о которой лучше всего сказал св. апостол Павел: Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего (Рим. 8, 23). Вся тварь совокупно стенает, т.е. ищет Бога, свидетельствует о Нем, стремится к Нему, как подсолнух к солнцу, как река в море.
Стало быть, чем наблюдательнее человек, чем чище его сердце, чем более он всматривается в сущность явлений, предметов, взаимосвязей между этими предметами, тем более ему открываются глубины внутренней жизни его сердца, тем более он постигает мир духовный. У всех великих художников мы находим это умение видеть в малом значительное, в несущественном – существенное, в изменяющемся – неизменное, во временном – вечное. Видимо, это свойственно всякому чистому человеческому сердцу. Даже в культуре сынов Востока – японцев, китайцев – мы найдем имена таких художников, которые не занимались салонным искусством, но много изучали мир, исследовали, наблюдали за ним, а затем умели единым росчерком кисти запечатлеть в земном языке линии, краски или слово. Многие из вас, наверное, знакомы с китайской, японской поэзией малого жанра, могущей запечатлеть не просто преходящее земное ощущение, но нечто относящееся к духовной тайне мира. Еще более это очевидно в словесном творчестве христианских подвижников, писателей. Например, кому-нибудь из вас, может быть, приходилось знакомиться с проповедями святителя Кирилла Туровского, нашего знаменитого проповедника эпохи Средневековья. Его слово на Пасху, слово на Антипасху, слово на Страсти Господни – просто вершина словесного литургического проповеднического искусства. Но о том же Кирилле Туровском известно, что он более десяти лет пребывал в затворе. Более того, он столпничал. И тогда ясно становится, как глубоко зачиналось, как трудно вынашивалось рождаемое им слово.
Но вернемся к художественному образу. Как мы сказали, суть и сущность этого образа заключается в сравнении видимого и невидимого, всем знакомого и таинственного, когда мы, сличая свойства земного предмета, восходим к постижению предмета духовного. Неопытный проповедник в своем слове преимущественно размышляет, строит речь в соответствии с законами логики, делает умозаключения, призывает к доброй, нравственной жизни, но при этом самый язык его часто отстает от хорошего содержания, ибо современным людям мало приходится обращать внимание на образ как форму, как сосуд с драгоценным содержанием. Особенно это очевидно, когда обращаются к детям современные законоучители, которые в своем языке часто игнорируют главные законы восприятия речи. Наша речь должна быть жизнеподобной, она должна походить на речь Спасителя, который не пренебрегал образами мира сего, и более того, на этих образах, как на опорах неких, созидал, строил Свое Богодухновенное слово.
Образ художественный силен еще и тем, что он воспринимается не только испытующим разумом, но и сердцем человека. Опишете ли вы полет птицы в небе, желая подспудно сказать о красоте духовной жизни, о нравственной свободе личности, которая пригвоздила к земле постыдные страсти; или, размышляя о чистоте души и невинности в помыслах, скажете два-три слова о простом полевом цветке, который всякого поражает своим изяществом, радует взор красотой соцветия, выдает свое присутствие благоуханием – все это не просто украсит вашу речь, но поистине даст ощутить в ней веяние жизни вечной. Сам Спаситель, как вы знаете, нередко такие образы привлекал, прямо указывал: посмотрите на птиц небесных, на лилии полевые. Он даже учитывал таким образом зрительное восприятие людей, научая и нас, проповедников, не гнушаться ничем подобным.
А сила подобного образа очевидна. Образ ли птицы, цветка или матери, рождающей ребенка, тотчас входит в сокровищницу памяти человека. Если это образ возвышенный, то он, воздействуя на чувство прекрасного или, скажем, каким-то образом насыщая эстетические потребности человека, тотчас производит свойственные ему действия. Сердце слушателя, так сказать, приподнимается, душа окрыляется, независимо от идеологии, от образа ваших мыслей. Образы высокие, чистые, как прекрасная картина, тотчас сообщают определенное настроение слушателю. Его сердце являет собою чистую доску, на которой в известных случаях, в уместное время, вы как художник живописуете.
Тот, кто возьмет это в толк и, произнося проповедь, речь, выступление, будет стараться подмечать, чего ему не хватает; кто научится слушать самого себя и будет думать, как бы сделать свою речь полнокровной, насыщенной, высокой, сильной, святой, чтобы доставить слушателям полноту жизненного впечатления; – тот по наитию начнет постигать эти тонкие законы словесного искусства и через неудачи, через творческое бессилие, через ошибки и срывы мало-помалу взойдет на гребень волны. Такой оратор всякий раз будет достигать больших и маленьких побед в самых разнообразных аудиториях именно потому, что он, живя по-доброму и размышляя о художественной значимости речи, получит от Бога способность дарить людям прекрасное, великое, высокое, святое, доброе – чего, по существу, сейчас человек лишен целиком и полностью.
Вспомним, что народ слушал Господа Иисуса Христа с услаждением. Забывая о самом хлебе насущном, люди следовали за ним голодными по пустыне, потому что это было Слово жизни и потому что это Слово выражалось, воплощалось в таких ясных и понятных, всем доступных образах и притчах, над запоминанием которых вовсе не надобно было трудиться. Это большая тайна – уместить слово в такую форму, подобрать такие образы, которые станут ключевыми для него; которые, образовав некую картину в душе говорящего, станут достоянием этой души и не сотрутся никаким временем.
Мне вспоминается слово митрополита Филарета Московского на Страстную Пятницу. Недавно была издана книжечка святителя Филарета "Десять слов о Кресте и глаголы жизни вечной" (М., 1995). Он языком своей эпохи, выверенным филигранным образом, рассуждает о духовном значении страданий Искупителя. Помню, слово в Великий Пяток, сказанное в 1813 г., он завершает двумя образами, в которых соединено все, о чем говорил митрополит, разумея непостижимую в своем существе тайну крестных страданий Христа (с. 38). Какие это два образа? Один – образ птицы, парящей в небесах. А птица как раз являет собою крест, благодаря распростертым ею крыльям. Ее слабая, немощная природа поднимается в воздух, носима воздушными струями. Удивительный образ дан нам проницательным словом, орлиным взором митрополита Филарета. Действительно, это же великое чудо – подняться в небо тому, кто рожден землей и на земле. Оказывается, что подняться в небо можно, только явив собою образ креста.
Иные изъявили согласие трудиться для Царствия Небесного, и не помнят обетования, какое изрек Господь: если все попечение ваше приложите о Царстве Небесном... не оставлю вас иметь попечение о себе самих, – говорит св. преподобный Исаак Сирин, перефразируя слова из Евангелия о птицах небесных (Мф. 6, 25-34). Стало быть, путь в Царствие Небесное, путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходил на небо, живя прохладно (Слова подвижнические Аввы Исаака Сирина. Слово 35. О любви к миру). Крест – это идея страдания, а вместе с тем, как указывает митрополит Филарет, это и символ радости, легкости, спасения, зане якоже избыточествуют страдания Христовы в нас, тако Христом избыточествует и утешение наше. Т.е.: по мере того, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше (2 Кор. 1, 5), понеже с Ним страждем, да и с Ним прославимся (Рим. 8, 17). А если не пострадаем с Ним на кресте, то с Ним и не воцаримся, ибо для того и страдаем, чтобы нам удостоиться Царства Божия (2 Фес. 1, 4-5). Если хотим воспарить, как горные орлы, в сретение Жениху Небесному, то да распинаем себя на кресте самоотвержения, что только и составляет подлинное ученичество Христово.
А другой образ в этой же проповеди митрополита Филарета – это образ человека, который борется с водной стихией. Если ты хочешь удержаться на воде, если ты боишься потонуть, то ты распластываешь руки в образе креста. Замечательная тоже мысль митрополита. Вода в Священном Писании – это многоликий образ, многозначный. Внидоша воды до души моея. Углебох в тимении глубины, и несть постояния; приидох во глубины морския, и буря потопи мя (Пс. 68, 2-3). Углебох в тимении глубины переводится: Погрузился я в беспредельные глубины. Образ речи, – замечает блаженный Феодорит, – заимствован от падающих в глубину морскую, которые долгое время опускаются вниз и едва достигают до твердого дна (Полный церковно-славянский словарь; прот. Г. Дьяченко). Конечно, это, прежде всего, образ многомятежного мира человеческих страстей. Да не потопит мене буря водная, – молится царь Давид, – ниже пожрет мене глубина (Пс. 68, 16) – глубина тех страстей, которые являются причиной гибели бессмертной человеческой души. И только крест нам позволяет держаться на поверхности, помогает переплыть житейское море, дабы затем, выбравшись на твердую почву7, оттолкнуться от нее и воспарить, наконец, в духовные небеса.
И вот, оказывается, если мы ведем речь о духовных предметах, если хотим осязательно, наглядно, убедительно рассказать людям о тайнах духовной жизни, то миновать эти образы-иллюстрации даже невозможно, коль скоро Сам Спаситель освятил, явил нам пример подобного словесного назидания.
Прежде чем мы перейдем к изучению Евангельских образов, хочется еще раз обратить ваше внимание на то, как сильно можно воздействовать на умы и сердца слушателей через включение в речь какого-либо сравнения или эпического повествования. Это помогает тем, к кому вы обращаетесь, освободиться от скучных, утомительных и тяжелых впечатлений этого грешного земного мира, и располагает душу к восприятию духовных помыслов, ощущений, к постижению духовных предметов. Вот почему жанр истории, рассказа, какого-то неспешного повествования самым неодолимым образом действует на современного человека. Ибо в нынешний век технического прогресса и информационного общества, в век сумасшедших скоростей люди стали, как оголенные нервы. Они мечутся среди бесчисленных бездушных машин и заменяющей общение электроники, снуют одинокими в огромной толпе, сведя до минимума язык общения, совершенно исказив и обескровив родное слово. Тем не менее, они не перестают жаждать этого слова, и в первую очередь, устного и живого слова. Не всякому сегодня дано приобщиться хорошей, доброй, умной книге, не всякому дано погрузиться в стихию Священного Писания. Многие признаются, что они читают Священное Писание как зачумленные, как чурки деревянные: Прочитал главу Евангелия, Апостола, и хоть бы что осталось в памяти. А устное слово, безусловно, гораздо глубже воздействует на слушателя, чем печатное слово на поверхностного читателя.
Сейчас, когда я об этом говорю в порядке учебном, я чувствую, что сам этот учебный материал достаточно интересен, но мне бы хотелось как раз отрешиться от такой учебности и действительно рассказать вам какую-либо историю, чтобы вы на деле убедились в силе такого слова. Вот вам для примера маленькая история, какая, надеюсь, не будет в ущерб и учебному материалу. Более того, я расскажу ее с некоторым педагогическим намерением. Вы общаетесь с детьми, вы знаете, какое место в жизни детей занимает любовь к животным и ко всему живому. На примере любви к животным мы учим детей большой человеческой любви. В Священном Писании мы находим важное свидетельство этому общению человека с животными: Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко (Притч. 12, 10). Отсюда неудивительно и выражение: Блажен милующий скотов. Милующий скотов – это не тот, кто ласкает кошечку, которая только что всю себя вылизывала, а он потом ей мордочку нацеловывает. Это как раз неправильно. Но милующий скотов тот, кто имеет сожаление ко всякой твари. Итак, я приведу вам в пример историю, какую время от времени рассказываю детям в православной гимназии.
Один физик, симпатичный и еще даже не пожилой, а скорее даже молодой человек лет так 28-29, уверовал в Бога и мало-помалу нашел дорогу в храм. Сам он для себя лучшим отдыхом считал поездку в Троице-Сергиеву лавру.
Не забывайте, вы детям это рассказываете. Ничего не выйдет, если станете говорить: "Будьте хорошими, будьте религиозными", или: "Каждый христианин должен, обязан исполнять свою христианскую обязанность и посещать православный храм". Ничего подобного вы не говорите, а просто историю рассказываете.
И вот, просидев неделю в душном своем институте, возясь лишь с формулами да уравнениями с двумя, тремя, четырьмя неизвестными, наш физик, словно птица, вырвался из шумного большого города. Его не смущало ни тарахтение вагонов, часто не отапливаемых в холодную зимнюю пору и душных летом, ни теснота – а иногда он вынужден был выстаивать в тамбуре все полтора часа езды, ни какие-либо другие неудобства, ибо сердце прилепилось к заветной святыне русского народа. Едва лишь он сходил с перрона, как душа его тотчас чувствовала взыграние, веселие духа. Еще не виделись синие купола Успенского собора, еще не открывался величественный вид на колокольню, свечой уходившую в небо, а он уже в душе своей молился: Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас. И вот он посетил лавру, сподобился чистосердечно исповедаться (какое в этом великое приобретение для христианской души!), отстоял литургию и причастился Святых Таин. Взяв три просфорки (одну для себя, другую для венчанной супруги, а третью для крестника), набрав во фляжку вкусной холодной воды из источника в часовенке, положив по-старинному три поясных поклона перед выходом из обители, заручившись благословением случайно проходившего пожилого батюшки, – он с обновленной душой и светлыми помыслами возвращался домой. Но решил идти не обычной дорогой, по которой все паломники стремятся на вокзал, а обходным путем по Митькиной улице. Эта узенькая улочка сейчас представлена только одной буквой н. Раньше, года два с половиной тому назад, на табличке стояло полное название: Митькина улица. Затем кто-то потрудился и стер первую букву, и получилась итькина улица. Потом, через некоторое время, была уже ина улица, а сейчас осталась только одна буква н. Вот по этой улице н и шел наш православный физик, о чем-то думая и как бы про себя улыбаясь. Ему захотелось посмотреть на старый Сергиев Посад, и он свернул в боковой проулок, как вдруг... перед его глазами что-то метнулось.
Тут вы начинаете сюжет определенным драматизмом насыщать, а для детей это самое интересное. Все, что говорилось до этого, было только предисловием. Вы сообщали лишь определенное настроение слушателям, и они полностью в это настроение вошли, потому что вы воссоздали в нескольких словах мир русского паломника. Как бы ни был маловерен человек, для него посещение монастыря, хотя бы на волнах памяти, – это всегда радость и утешение.
Что-то метнулось... Остановившись как вкопанный, – а вы даже имени его не сообщаете, – он вдруг увидел маленькую дрожащую тварь. Не все дети знают, что это такое устойчивое словосочетание в классической русской литературе. Он увидел... маленькую собачку – то ли дворняжку, то ли дочку дворняжки, – которая вне себя от ужаса и собачьего волнения бросилась опрометью вправо. Очевидно, не разбираясь в людях, она помышляла, что перед нею некий Карабас-Барабас, Фантомас, наслушавшийся тяжелого рока, а не православный физик, душа которого была тише воды и ниже травы. Юркнув в заборную щель, собачка – о ужас! – застряла в ней и, будучи не в силах просунуть свой крестец, лишь беспомощно скулила и поджимала хвостик, ожидая, очевидно, скулодробительного удара постсоветского загорского сапога. Наш физик, посмотрев на это Божие создание, угадав все то, что сокрыто было в бешено колотящемся собачьем сердце, подошел на цыпочках, желая успокоить бедное животное, и, несколько раз погладив дрожащего песика по задней части, надавил большим и указательным пальцами на бедра собачки и ласково пропихнул вперед. Собачка радостно взвизгнула, два-три раза вильнула хвостиком, как показалось физику, благодарно взглянула на него, а затем опрометью бросилась под дом, очевидно, не веря своему счастью. Распрямившись, физик возобновил свой путь, а в душе его перезвоном-трезвоном пели лаврские колокола. Над головою раскинулось высокое-высокое, чистое голубое русское небо. А душа как будто бы соприкасалась с ним, не чуя земли. Часть первая.
Здесь вы детям говорите: "Ну как, хватит?"
Они отвечают: "Не-ет! ЕЩЕ!"
– А как же наш учебный процесс? Как же суффиксы "-ющ", "-ущ" действительного причастия?
– Мы выучим, выучим, и "-ющ", и "-ущ", и "хрящ", еще расскажите пожалуйста!
А вам-то важно не то, что ваше слово пользуется успехом, а то, что наступил удивительно благоприятный момент, когда ваши слушатели напряжены, заинтересованы, увлечены так, что вы можете вложить в их сердца абсолютно все... хорошее. Вы ощущаете себя на данный час таким скульптором, который размягчил глину, и вот уже вертится нехитрый станок, можно лепить. Хотите амфору, хотите горшок, хотите высокий, хотите низкий сосуд. В этот момент ваши слушатели, в отличие от каких-нибудь зачумленных тяжелым роком подростков, как никогда обращены к Богу, ибо они сочувствуют всему доброму и хорошему. Для них открывается православие как радость бытия. И все это за счет слова, правильно выстроенного и, конечно, сердечно преподнесенного.
Прошло несколько лет. Физик давно уже забыл и Митькину улицу, и маленькую собачку. Он вообще старался не помнить ничего доброго, что он делает. Но, порадовавшись чему-то благому в своей жизни, поблагодарив Бога, он забывал об этом добре, дабы тщеславие никогда не оскверняло его доброй и цельной жизни. Несколько лет спустя исполнилась другая заветная мечта нашего героя (а это действительная, не выдуманная история), и он получил возможность в летние дни своего короткого июльского отпуска посетить удел Божией Матери – Новый Афон, где и поныне красуется дивный Новоафонский монастырь, созданный попечением царя-мученика императора Николая II. Монастырь находится в непосредственной близости от Иверской горы, той самой, что избрана на земле уделом Царицы Небесной и поныне Ею ревностно охраняема (о чем мы расскажем вам как-нибудь в другой раз, если вы будете хорошо себя вести и тщательно делать домашние задания).
Итак, Промысел Божий привел нашего физика на кавказское побережье. Жарко светило солнце, погода стояла изумительная, июльский летний день навевал прохладу. Сердцем физик был уже на Новом Афоне, где ему предстояло познакомиться с монастырской братией. Он обязательно хотел посетить и тот залив, где, по преданию, были утоплены с баржи несколько десятков, если не сотен новоафонских монахов. Местные водолазы сообщают, что до сих пор их нетленные тела стоят на дне залива. Сохранились даже одежды. И ни рыбы, ни морская влага не властны были прикоснуться к телам новомучеников российских. Это все правда, что я рассказываю, и очень значительно не только для детей, но и для взрослых. Рассказ от этого приобретает особенную духовную силу, становится особенно назидательным.
Итак, до посещения монастыря у нашего москвича оставался в запасе один день, и он решил обойти город Сухуми. (Событие это еще до Абхазской войны случилось.) Был полдень, на улице Сухуми почти никого не было видно. Наш физик шел по одной из боковых улочек и дивился пышной растительности южного города. Справа и слева росли сливы, которые к тому времени уже поспели и привлекали к себе взор благочестивого паломника. Малиновые, янтарные – они, как некие райские плоды, увешивали деревья. И стало ясно, что их здесь никто не обрывает и не собирает. Привычно произнося в душе молитвы – то: Господи, помилуй, то: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного, то: Пресвятая Богородице, спаси нас, физик шел по улочке в белых парусиновых брюках, в простой клетчатой рубашке с рукавами по локоток. (Именно так должно ходить паломникам в южных пределах нашего отечества: с рукавами по локоток, не выше). У него была еще симпатичная русая бородка, которая особенно нравилась благочестивой супруге нашего физика.
Так он шел по улочке, размышляя, взять или не взять одну из слив, лежавших под деревьями, как вдруг... из палисадничка, за которым скрывалось некое казенное заведение, вышел милиционер-абхазец. Взор его был тяжелым и несветлым. Расстегнутый ворот рубахи, криво наброшенный китель свидетельствовали о том, что блюститель порядка отдыхал, предаваясь обычному для южных жителей отдыху, соединенному с употреблением огненной влаги. Милиционер встал на пути физика и указательным пальцем поманил его к себе.
– Иди сюда, дорогой. Откуда ты такой?
– Я москвич. Приехал в Сухуми осмотреть достопримечательности вашего края, – кротко отвечал физик.
– Документы. Пойдем со мной.
Вкрадчивый, казалось, ласковый голос милиционера не предвещал ничего хорошего. Привыкший к законопослушанию, никогда не перечивший стражам общественного порядка, физик пожал плечами (казалось, вид у него самый мирный, он не был похож ни на шпиона, ни на бомжа) и последовал за абхазцем в околоток. Там его посадили в небольшую комнату, выкрашенную зеленой масляной краской, предложили положить на стол все вещи, бумажник, документы, после чего бумажник и паспорт тотчас были изъяты. В комнату вошли еще три или четыре абхазских милиционера, которые ради такого изрядного случая решили временно покинуть стол с яствами.
– Зачем ты приехал в наш город? Тебе что, Кремля мало?
Физик чувствовал, что голоса проникнуты подозрительностью, недоброжелательством. Затем он вдруг понял чутьем проницательного человека, что им нужен был только повод. Очевидно, в их воскресный отдых входило намерение позабавиться с такой безобидно-безгласной жертвой, и что бы он ни говорил, его слова лишь подливали масла в огонь.
– Ты мне не нравишься! Зачем ты приехал? – Мало-помалу голоса их грубели, у одного глаза постепенно наливались кровью, другой почесывал кулак о собственное бедро.
Дела мои плохи, – подумал про себя физик. – Господи, да что ж это такое? Матерь Божия, помоги!
Обступив свою жертву кругом, они уже начинали размахивать пред ним кулаками, как бы примериваясь, но еще не решаясь нанести первый удар. Что со мной будет? – снова мелькнула в голове физика мысль. Он боялся не столько за себя, сколько за жену и двух симпатичных, белокурых детей. – Ведь никто ничего и не узнает. Закопают под той самой сливой, и ни слуха, ни духа. Господи, помоги! Да что ж такое?
– Не надо! Зачем? Я все отдам, что вам нужно.
– Ты сам нам здесь не нужен, в Сухуми.
И вот уже один из милиционеров вытащил из пояса ремень и стал зловеще крутить им перед его носом бедняги. Казалось, еще минута-полторы, и случится самое худшее. Физик полностью ушел в себя. Он отчетливо чувствовал независимость души от бренного, уже страждущего тела. Душа его взметнулась и... обрела самое драгоценное, что появляется в состоянии христианина, особенно в трудный и опасный момент: горячую, непрестанную, святую молитву. Он успокоился, сердце перестало биться пойманной птицей. Бог видит меня и слышит, Он рядом. Господи, да будет святая воля Твоя.... Живый в помощи Вышняго, – на ум физику пришли слова 90-го псалма, – в крове Бога Небесного водворится. С тех пор он уже ничего не замечал и ничего хорошенько не помнил. Вокруг, казалось, шумела буря. Обыдоша мя псы мнози, юнцы тучные одержаша мя (так сплелись в его сознании стихи из 21-го псалма). Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен, – всплыли откуда-то из самой глубины души слова царя Соломона (Притч. 18, 11). Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.... Он не знал, сколько прошло времени – 20 секунд или 2 часа, как вдруг ощутил, как чьи-то грубые руки выволокли его из душной прокуренной комнаты и выбросили на улицу, кинув, вслед за тем, опустошенную сумку и паспорт. Еще секунда, вторая, и он пришел в себя, чувства возвратились к нему. Расправив плечи, физик увидел над собой высокое ясное синее небо, ощутил приветливый шум листвы. Слива словно радовалась высвобождению доброго человека. Сзади никого не было, дверь захлопнулась с шумом и треском, закрыв за собой тревожных и неспокойных обитателей сего неприветливого места.
А ноги несли физика вперед, и в этот самый час и миг он вспомнил ту маленькую собачку и тот забор, ее ужас и смятение, и вспомнил, как тогда над его головою распростерлось такое же синее ласковое небо. И он ощутил себя маленькой тварью, маленьким возлюбленным Божьим созданием, с головы которого и волос не упадет без воли Божьей. И никакой морали, никакого назидания. Больше того, чтобы у детей осталось от этого рассказа более глубокое впечатление, лучше всего резко развернуться и поменять тему: Та-ак. А ну-ка запишем домашнее задание. К следующему уроку вы должны приготовить раздел Непроверяемые гласные в корне слова, § 84.
– А в следующий раз вы расскажете про Сухуми?
– А это будет видно из опроса. Благодарю за внимание. До свидания.
Современный проповедник, зная состояние душ людских, конечно, должен сам ощущать и понимать разницу между различными стилями и жанрами речевого общения и вовремя прибегать к жанру беседы, рассказа, который всех нас делает друзьями, который разрушает все перегородки, условности, выстроенные грехом. Жанр этот не уравнивает нас между собою. Напротив, рассказчик может пользоваться сугубым благоговением и почтением со стороны своих слушателей, подобно доброй бабушке, которая в лице своих внуков находит любовь и признательность. Но, безусловно, плод, духовное воздействие более всего свершается именно тогда, когда люди перестают себя чувствовать учениками или профессорами, доцентами, студентами, когда все получают приращение духовное, черпая радость в самом повествовании, которое без всякого морализирования словно проливает бальзам на душу и укрепляет нас в вере, утверждает в мысли о нравственном миропорядке, о близости к нам живого Бога; о том, что путь жизни – это исполнение заповедей, даже самых маленьких: Блажен милующий скотов. По существу, главным героем этого произведения является, конечно, Господь Бог. Не собачка, и не физик, а Бог, Его промысел, Его попечение о Его созданиях. Слово "Бог" вы и сказали-то всего два-три раза, и почти никакой религиозной терминологии не употребили. Но очевидно, что таким образом мы много даем нашим слушателям, а они не чувствуют с нашей стороны никакого насилия, никакого стремления исправить их нравы и каким-то образом лишить их свободы мышления и поведения.
Теперь следующая страничка нашего занятия. Мы обратимся к тринадцатой главе Евангелия от Матфея, где собраны семь притч Господа нашего Иисуса Христа о Царствии Небесном. А Царствие Небесное является главным предметом проповеди Господа. Царствие Небесное есть главный предмет нашей веры. Царствие Небесное – это то, что должно быть усвоено нами уже здесь на земле в как можно более полной мере. Царствие Небесное тождественно со словом "спасение". Спасение человека в Боге. Те из вас, кто изучал византийское искусство, знакомы с древними базиликами, храмами, с мозаиками римского, византийского периодов и, наверное, помнят замечательную по своей безыскусственности и простоте мозаику безвестных художников, которые запечатлели излюбленные образы Иисуса Христа; образы, взятые Им из жизни и употребленные в притчах о Царствии Небесном.
По-моему, очень удачную попытку воскресить искусство древних художников осуществили в храме св. Митрофана Воронежского, настоятелем которого является о. Дмитрий Смирнов. По своду главного (и единственного) алтаря расположены эти замечательные образы. Это две птички, две горлицы, очевидно, сидящие на земле и, может быть, ищущие зёрна. Рыбка, лежащая на земле, а может быть, плывущая. Это два-три хлеба или пять хлебов, друг на дружке стоящие. Это, конечно же, древо. Раскидистое древо с сидящими в его ветвях птицами, теми же белоснежными горлицами. Это полевые лилии: одна стоит прямо, устремив соцветие к небу, другая – склонив головку в знак смирения. Это сети, которые могут быть разостланы на скале. Пушкин часто использует этот образ невода, разостланного на берегу реки или моря. Помните, например:
Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.
Невод, таким образом, напоминает о призывании апостолов. Изображены там и простые предметы обихода сельских жителей Палестины, представители флоры или фауны Святой земли. Самые эти предметы действуют успокаивающим образом на глаз человека, в них нет никакой претензии, в них никакого стремления выразить себя. Чего добиваются художники, ушедшие или отдалившиеся от путей Божиих? Самовыражения. А в этих предметах нет никакой претенциозности, совершенно нет никакой нужды расслаивать форму, по существу, уничтожать форму, ибо содержание этих предметов вполне понятно, ясно и очевидно. Но сила подобных изображений, конечно, в их сопричастности с Евангелием, со Христом, с Божественной благодатью. Ведь предметы суть символы чего-то высшего, превосходного, непреходящего; того, в чем сокрыта тайна спасения человеческой души.
Хлеб. Христос именует Себя хлебом жизни; хлебом, сшедшим с небес: Аз есмь хлеб жизни… хлеб животный, иже сшедый с небесе (Ин. 6, 48 и 51). Вообще, хлеб свят. У нас, у русских людей, есть ощущение святости жита – того, что укрепляет и дарует нам жизнь.
Рыбица малая, которая сокрыта в Иисусовой молитве. Вы, знаете, что по-гречески ichthys значит "рыба". Это греческое слово может быть расшифровано как IESOUS CHRISTOS THEOU YIOS SOTER, – что читается как "Иисус Христос Теу (или Феу) Иос Сотир", а переводится как "Иисус Христос Божий Сын – Спаситель".
Пятью хлебами и двумя рыбками Господь накормил пять тысяч людей, а затем семью хлебами и несколькими рыбками – четыре тысячи. После воскресения Господь наполнил сети апостолов ста пятьюдесятью тремя рыбинами, а на берегу их ожидали рыба и хлеб, которые Он потом преломил и дал им. Все это прообраз Евхаристии. Господь предлагает Себя в снедь, как рыбу и хлеб. Это с одной стороны. А с другой – зовет за собою, дабы вчерашние рыбаки уподобились Ему и стали ловцами человеков, как рыб, ради приобретения их душ для Бога: Мрежи иные тебя ожидают: будешь умы уловлять.
Дерево, растущее из семени – опять-таки образ благодати Господней, возрастающей мало-помалу и возводящей человека к небу.
Птица в ветвях дерева – тоже замечательно многозначный, говорящий образ. Одно из его пониманий – это символ души в лоне Церкви, души здравствующей, благоденствующей, наслаждающейся полнотой бытия. Символ надежной защищенности человека, вошедшего в ограду Церкви и оставшегося там. Живый в помощи Вышняго в крове Бога Небесного водворится – вот такие слова можно было бы полукружьем над такой картинкой написать, и всем понятно было бы. Кроме того, горлица в ветвях дерева является, несомненно, образом ангела, ангельской силы. Ибо ангелы слетаются туда, где цветет и плодоносит древо благочестия. Как сказано: И будет яко древо, насажденное при исходищих вод (Пс. 1, 3). Небожители радуются об обретении драхмы потерянной и слетаются на вечерю, дабы возвеселиться вместе с хозяйкой (см. притчу о драхме: Лк. 15, 8-10). Итак, это образ горнего мира, который радуется о грешнике кающемся и в содружестве с праведным обретается. Такая птичка (это уже третье возможное осмысление этого образа) является еще и знаком светоносных Божественных помыслов или, иначе, благородства души человеческой. Благородство души происходит не от каких-то внешних атрибутов, а из самого содержания души. Если в душе скрываются гордость, тщеславие, непримирительная злоба, зависть, обида, гнев, похоть, уныние, то душа – низкая, по крайней мере, она себя таковой ощущает. А если в душе распространяются, укореняются, умножаются добродетели мира, доброжелательности, жалости, бессеребренничества, беспристрастия, холодности ко всем земным благам, устремленности ввысь к Богу в молитве, особенно, если душа изобилует чистотой, радостью, мудростью, то наполняющие душу добродетели или помыслы, как говорят Святые Отцы, опять-таки могут быть переданы графически или словесно в образе таких птиц, белых горлиц, укрывающихся в ветвях дерева. Соответственно, когда вы захотите рассуждать на подобную тему, развернуть ее перед слушателями разновозрастными или одного какого-то возраста, то вы каждый образ такой, рассматривая со всех сторон, как бы извлекая его из притчи, начав размышлять о нем, развернете так, что тотчас сами удивитесь стройности и цельности рассказа, который в себя вместит и земное, и небесное, и временное, и вечное. Он (что немаловажно для нас) будет максимально приемлем для слушания по красоте композиции, которая сама собой выстраивается как бы окружностями, имея центром подобный маленький образ. Особенно интересно беседовать на эту тему с детьми, потому что они так быстро откликаются на все, что им знакомо; радуются, когда могут что-то сказать, дополнить, раскрыть ваше повествование. Им нравится делать умозаключения духовного порядка, потому что их сердца еще сочувствуют хорошему и отвращаются от злого.
Закваска, дрожжи – это, как известно, образ Духа Святого, точнее, благодати Духа Божьего, благодати, всажденной в тело, душу и дух человека или, если хотите, в ум, сердце и волю человеческие. "Расскажите, пожалуйста, дорогие друзья, как нам в домашних условиях можно было бы заняться выпечкой хлеба? С чего начнем?" – через такое очень необычное начало вы, по существу, сами сочиняете благовестие духовное. В этой притче все значимо. Загляните в толкование на притчу. Одно дело мука, другое дело – вода, третье – дрожжи и соль.
Вода – образ крещения. Аще кто не родится свыше... водою и Духом, не может внити во Царствие Божие (Ин. 3, 3-5). И от вас только зависит, как вы подадите, как проиллюстрируете притчей тайну духовной жизни. Мука – это образ нашего естества, взятого от персти земной. Поэтому и нужно вести рассказ параллельно. Ведь и у вас в душе должна совершаться эта выпечка. Например, так можете начать: Вот если мука – это наша природа бренная, да слабая, да хрупкая, то что – вода? В каком таинстве обновился человек, освятился и возродился к вечной жизни? Как называется это Таинство, не без участия воды совершаемое? Вот тут-то вы наводите детей на богословствование, вот тут-то они начинают печь, выпекать слово своего собственного спасения. Так, кладем закваску. Скажите теперь, вдруг ли, в единочасье ли восходит тесто? Как вы считаете? Правы ли баптисты, которые говорят: уверовал, крестился и вот уже спасен. Испекся. Этакий вот подрумянившийся пирог с фаршем. Нет. По-православному мысля и рассуждая, мы с вами докопаемся до сути. Спасение совершается не вдруг. Как неспешно проникает закваска собою состав будущего хлеба, так незримо благодатью Божией возрождается некая таинственная духовная жизнь. Вот оно воздымается, возбухает это тесто. Так и у нас. Как давно кто крестился? Миша в детстве. Саша в прошлом месяце. Как вы чувствуете, закваска эта взошла или нет? Тут дети уже применительно к себе начинают рассуждать. Важно только делать это не топорно, но мягко и умно.
А тесто может ли взойти, если вы его поставите на сквознячок? А если вы его просто оставите в кастрюле открытой всем ветрам? Что нужно нам для того, чтобы на следующее утро тесто прямо пучилось, вылезало из емкости, не хотело бы там умещаться, хотело бы еще куда-то переползти? Да, нужно его хорошенько закутать и поставить в теплое место. А как вам кажется, что это за теплое такое место, в котором души человеческие зреют, наливаются? Если кто это среду избегает, за километр обходит, то остается пустоцветом, остается полуфабрикатом. Что это такое за место? Тут дети начинают уже совершенно самостоятельно рассуждать:
– Это храм, церковь.
– Да, действительно.
– Там только тепло, там только светло, а вне Церкви холод, мороз.
– А вот нужно еще и укутать это тесто, покровами покрыть так, чтобы не добрался до него даже случайный, невесть откуда взявшийся сквознячок.
Вы учите детей образу мышления, а лучше сказать, благочестия, через такое размышление. Они тут много интересного вам расскажут. По-разному скажут иные дети, особенно православные. Они уже в языке Церкви, в языке Священного Писания как-то начинают разбираться.
– Такой покров, – кто-то скажет, – это доброта, любовь, праведность.
– Да, действительно, и Апостол Павел говорит, что христианин должен облечься в броню праведности (Еф.6,14), а про любовь говорит, что она всё покрывает (1Кор.13,7).
– Это мамины молитвы, – скажет другой, – потому что без маминых молитв холодно жить на этом свете. Молитва матери спасает, покрывает, сохраняет.
– Это благословение священника на всякое дело благое, – добавит третий, – потому что, когда я беру благословение, то всё получается, и на душе бывает легко и радостно.
Не спеша вы, собственно, и пришли к тому, что вам надо: к воцерковлению детской души, хотя центром собеседования является вещь, предмет совершенно земной. При этом вы помните, что любое сравнение хромает, и не нужно выпивать кровь из этого сравнения, полностью доводить его до конца. Вы не занимаетесь какой-то игрой, не расшифровываете шараду или кроссворд. Вам нужно, чтобы и волки были сыты, и овцы целы; чтобы и хлеб был хлебом, и жизнь благочестивая сияла во всей силе. Но и оставить это сравнение так просто тоже нельзя. Опытный педагог не выбросит его, как выжатый лимон, не скажет в заключение: "Так будем же благочестивы, милые дети. Кто не причащался в последнее воскресенье?" Нет, так не надо. Самое прекрасное, что есть у нас в Православии, это ненавязчивость и жизнелюбие. Мы должны любить жизнь во всех ее лучших проявлениях. Но чтобы дело не стало скучным и чтобы образ обрел жизненную силу, я бы, если бы проводил свой урок с детьми, то предложил бы им еще следующее.
Во-первых, я бы спросил их: Ну, пожалуйста, вот я вижу, что вы все тут такие знатоки. А кто знает, какие ингредиенты входят в православный кулич? Пусть они вам перечислят всё, что туда входит, а вы им еще дополните, потому что дети нынешние, да и мамы часто тоже, не слишком хорошо ориентируются, что нужно иметь для выпечки настоящего кулича. Что такое кардамон? Что такое ваниль да цедра? А сколько масла и яиц надо положить? – очень интересный разговор выходит. А сверху еще кто-то глазурью предложит покрыть, кто-то – сахарной крошкой разноцветной посыпать, а кто-то объяснит, как миндальными долечками его украсить. Очень увлекательно. Они потом всё это расскажут родителям. А во-вторых, вы еще можете дать им домашнее задание: Хорошо, друзья. Я вас не заставляю бежать завтра в церковь исповедоваться и причащаться. Сам пойду, а вы – как хотите. Сам-то я обязательно буду исповедоваться. Господи, помилуй. Но для того, чтобы наш урок даром не пропал, пожалуйста, вы попробуете к следующему уроку, с минимальной помощью мамы, выпечь нам иллюстрацию сегодняшней нашей беседы. А мы посмотрим и попробуем, кто на что горазд. Таким образом, в вашем общении присутствовать будет и занимательность, и некоторая веселость, и жизненность, и полнота человеческого опыта. И вроде бы ничего не навязывается, и вроде как православие растворяет урок труда, а урок труда или кулинарии иллюстрирует Православие. Всё это подспудно в детском сердце оставляет след той радости, той полноты, из которых, я думаю, писалась книжечка Шмелева "Лето Господне". Нам надо учиться созидать духовный мир и вводить в этот духовный мир детей, надо учиться согревать простые, добрые занятия, детские игры той атмосферой благоуханной православного благочестия, которое имеет силу заквашивать души благодатью Божией.
В качестве домашнего задания я предлагаю вам поразмышлять над одним из трех образов и составить небольшой рассказ, рассчитанный на любую аудиторию. Не обязательно для детей, так как не всякий легко находит с ними общий язык.
Жемчужина. Это самая короткая Евангельская притча. Жемчужина, обретенная нежданно-негаданно. Жемчужина, ради которой продано всё, что имеет человек. Вообще, образ драгоценного камня, сокровища в параллели с благодатью Божией. Можно взять образ какого-то сребролюбца, скупого рыцаря, который трепещет над сундуком с жемчугами. Он чувствует себя счастливым и несчастным, богатым и скуден на самом деле. Он желает вечно этим обладать, но не может ни на секунду задержать движение жизни. Он собирает, а вместе расточает. Интересно сравнить такой образ земного обладателя сокровища с благодатью Духа Святого, которую мы тоже должны стяжевать, которой мы должны наслаждаться в душе, дорожить невидимым ее присутствием; бороться, охраняя ее от завистливого дьявольского ока. Раздавая ее – получаем. Радуемся, когда она с нами, и печалимся, когда мы по собственной своей вине растеряли ее. В общем, образ настолько, можно сказать, ясный, что слово само просится на уста.
Семя горчичное. Малое горчичное семя: невзрачное, невидное, но терпкое, крепкое, таящее в себе невидимую силу. Тут есть о чем беседовать. О том, что семя благодати умещается в глубинах сердца. Оно интересно тем, что никому не видимо, не ведомо, что совершается в душе человеческой. И, конечно же, здесь уместен образ садовника, который должен обеспечить этому семени возрастание. И мысль Христа о смерти, которая дает жизнь, о готовности умереть ради жизни вечной. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную (Ин.12,24-25). Здесь можно найти интересную линию сюжетную.
Невод. Невод, закинутый в море. Последняя Евангельская притча из тринадцатой главы. Эта притча страшная, притча о Страшном суде. Притча о Божьем Промысле. Невод – это образ Божественного попечения о людях. Много званых (Лк.14,16-24) – вот значение невода. Море – это море житейское, мир человеческий. Невод – это все средства Божественной премудрости и благости к обращению сынов человеческих, к привлечению их в Небесное Царство. Вот эта Божественная премудрость объемлет всех – благих и лукавых, правых и неправых, малых и великих. Это образ Божественной любви. Если ты, как золотая рыбка, в едином неводе со своим соседом, почто негодуешь на своего собрата? Почто унижаешь его? Или он не в том же неводе, что и ты? Или над тобой не будет свершен тот же суд, что над ним? Или тебе поставлено будет отбирать худое от доброго? Кто ты? Судящий или судимый? Такая притча, которая раскрывает перспективу вплоть до Страшного Суда. Она богата многими нравственными мыслями о том, как нам общаться с людьми. Нам ли судить брата своего? Тебя Господь милует пока что, призывает, изымает из моря житейского. И тебе кажется, что так будет всегда, что ты всегда будешь званым. И величаешься, надмеваешься, смотришь свысока на брата своего. Но положит ли тебя Судия в сосуд, когда вынет невод? Отберет ли как лучшее? Не ты будешь определять, достоин ли ты оказаться в сосуде. Можно оказаться и выброшенным вон. Не ты – Ангел Господень. Но Ангелы Господни при кончине века отделят злых: тех, кто любил властвовать над вверившимися им душами, кто глумился над немощью, кто подобно Иуде попирал любовь, предавая ее врагам. Все видит Господь. Изыдут Ангелы и отделят злых и лукавых из среды праведных, и ввергнут в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов (Мф.13,47-50). А следующий стих помните какой? И спросил их Иисус: поняли ли вы всё это? Ждем ваших ответов на этот вопрос в ваших домашних сочинениях.
Поговорим о том, как рождается в душе нашей слово. О том, что предваряет появление слова на устах или на бумаге. О том, как подобает готовиться к произнесению слова. Ибо весьма справедливо будет сказать, что наша речь есть лишь видимая часть айсберга. И гораздо большая часть остается в тайниках человеческой души не высказанной и не раскрытой. Или, как Сам Спаситель нас удостоверяет, от избытка бо сердца уста глаголют [человеческие] (Мф. 12,34).
Сегодня мы все привыкли к бешеному ритму жизни. Все требуем и от себя, и от других непомерных скоростей. Наша речь тоже отражает эту общую для человеческого рода тенденцию. Теперь человек постоянно находится в состоянии заполошенности, то есть всегдашнего суетного движения, брожения, и чем более спешит, тем менее успевает. В таком состоянии вечной спешки пишутся целые книги, ученые труды, художественные произведения, произносятся пространные речи. Однако подобное устроение души современного человека сильно отличается от тех золотых времен, когда слову предшествовала многолетняя и многотрудная молчаливая деятельность, когда слово долго вынашивалось в недрах человеческой души и не спешило являться на свет Божий. Думаю, все вы читали записки преподобного старца Силуана Афонского 8. Это произведение, конечно, нельзя миновать в своем духовном становлении. И для всякого внимательного православного читателя эта книга действительно откровение – такой силой и теплотой Духа Божия дышит из простых и, казалось бы, немудреных речей необразованного монаха-простеца. Однако, вчитываясь в его строки, начинаешь постигать тайну слова, освященного Духом Божиим. В предисловии к этой книге указывается, что старец никогда не занимался литературными трудами, никогда не пописывал, не только не был графоманом, у него даже и времени и мысли не появлялось о том, чтобы оставлять какие-то автобиографические и путевые заметки. Но то, что он написал, явилось результатом сорокалетнего подвижнического молитвенного делания. И стал он писать, несомненно, по велению свыше, по наитию, по Божиему послушанию – то есть, не мог таить того сокровища, которого искал, которое годами копил, как мудрая пчела сносит в улей нектар с цветов.
И, конечно, слово старца Силуана не похоже на наше слово. В нем вовсе нет ничего случайного, поверхностного. Слово никогда не опережает мысль. Да и где-то у него написано, что святые Божии человеки никогда от себя ничего не произносили, но произносили свыше, по велению Духа. Старец Силуан, как мы помним, скончался в 1938 году. Но по своей жизни, по внутреннему опыту, несомненно, он был един от древних, то есть состоял в духовном преемстве со знаменосцами, отцами Святой горы, дышал их духом, явился звеном в этой златой цепи святогорской святости. И нам особенно удобно, вчитываясь в писания старца Силуана, понимать, как рождалось и восходило слово в Средневековье, как творили, как учили святители Русской православной церкви, византийские отцы. В глубоком молчании, исихии, то есть молитвенном собеседовании с Богом, при молчании уст они наблюдали рождение в своей душе слова не человеческого, но Божия. И действительно, всякий из проповедников может проверить это на своем собственном опыте: сомкни уста и молчи – час, два, три. Отвечай только по необходимости. И даже тот, кто жалуется на рассеянность, тот, кто не может найти в своем сердце невинной, глубокой, светлой мысли, в молчании откроет для себя гораздо больше, чем если бы он беседовал с самими умудренными людьми, поучаясь от них знанию. Молчание, как указывают Святые Отцы, прекращая действие языка, имеет свойство обращать мысль в глубину сердца. В молчании душа словно выходит из этого существования, перестает быть гражданкой видимого мира и видит себя пред вратами вечности. Молчание, а значит, и то, что ему способствует, например полное уединение, действительно, всего более плодоносно и плодотворно, когда речь идет об умственных трудах вообще и о словесных, проповеднических трудах, в частности. Мы сами инстинктивно знаем силу и пользу молчания, недаром же иногда просим: "Не мешайте мне, мне нужно сосредоточиться"; "Попросите никого меня не тревожить"; "Я хочу побыть наедине с собственными мыслями"; "Мне нужно прийти в себя", – и прочие выражения употребляем, свидетельствуя себе и окружающим об особенном состоянии немоты уст и, следовательно, оживления внутренней жизни сердца.
Но, безусловно, мало еще внешней отрешенности. Для словесной, проповеднической, деятельности совершенно необходимо и особенное состояние сердца, ради чего мы и молчание так любим и так его ценим. Общаясь с людьми, мы вольно или невольно заражаемся их страстями, беспорядочными движениями души, проявляющимися и вовне – в жестах, словах и поведении. Тот, кто внимательно за собой наблюдает, делает необходимый вывод, что общение с людьми помрачает немощную в духовном отношении душу, каковыми все мы являемся. Общение с людьми заставляет нас осознать справедливость закона Блеза Паскаля, гласящего о том, что в сообщающихся сосудах уровень жидкости одинаков. Отец Иоанн Кронштадтский в своем знаменитом дневнике утверждает о таинственной связи, которою соединены между собою души, существа бестелесные. Все мы, человецы, почтены одной и той же природой, которая в Адаме едина, а в нас представляется раздробленной. Но все мы, вместе с тем, не разобщены настолько, чтобы наш внутренний мир не терпел никаких колебаний, изменений, движений при сообщении друг с другом. Отец Иоанн Кронштадтский, между прочим, говорил, что ему приходилось затрачивать особенные усилия, когда во время богослужений собиралось огромное число людей светских различных сословий, и отец Иоанн чувствовал ту стену, которую должно было ему пробить даром своей сердечной молитвы. Пробить, дабы окружавшие его тысячи людей отрешились под воздействием благодати от присущей им мертвенности сердец, окамененного нечувствия и ощутили прилив молитвенных чувств, ощутили бы движение сердца горй, испытали бы то, чего каждый из них вдали от такого молитвенника, каким был отец Иоанн Кронштадтский, никогда не ощущал. И вот отец Иоанн уподобляет себя труднику в каменоломне, который своей тайной пастырской молитвой, молитвой народного вождя словно бьет в эту стену и разрушает ее, наконец, добиваясь победы (а он привык побеждать в духовной брани, умудрившись в ней за многие десятки лет) и объединяя собравшихся с ним в единое молитвенное дыхание.
Но вернемся к нашей мысли о том, что, общаясь с людьми, мы неприметно для себя входим в резонанс с их душевной конституцией, устроением и всякий раз ощущаем свое сердце измененным по сравнению с моментом, предшествующим началу общения. И чем внимательней мы за собой наблюдаем, тем явственней это чувствуем. Как бы у души есть такие невидимые руки, которыми она осязает сердца окружающих и выносит из этого определенный опыт. Мы как бы по наитию инстинктивно различаем людей с тяжелой волей, с нелегким сердечным устроением; различаем тех, кто каким-то образом угнетает нас внутренне. При иных людях нам тяжело бывает не то что молиться, а даже сохранить независимый строй мысли. Реже встречаются те, кто напротив, согревает, умиряет нас. Ну а те, кто совершенно чужд церковной жизни и готов признать в ком-то из окружающих вампиров, чувствуют себя как выжатый лимон, едва лишь полчаса пообщаются с соседкой или соседом. То есть, не будучи людьми самостоятельными в духовной жизни, не имея пуповины, связующей душу с Богом, они еще в большей зависимости находятся от мира, от мирского духа, владеющего сынами человеческими. И вот уединение и молчание для того-то и нужны, чтобы пришла к нам мало-помалу тишина чувств. Хорошо об этом сказано в ремарке к молитвам перед чтением Псалтири: постой мало, дондеже утишатся все чувства, а затем, оставив привычку куда-то спешить, без лености, со умилением и сокрушением, а не борзясь, начни внимать глаголемому не только умом, но и сердцем.
Тишина чувств – это, несомненно, дар духовный. Мы, священники, приглядываясь к различным устроениям и настроениям человеческих сердец, иногда проникаемся внутренним сочувствием и жалостью к людям, которым вовсе неведомо это состояние успокоенности, уравновешенности, тишины, а значит, и ясности. Есть такие люди, которые под действием лукавого духа привыкли заводить сами себя, они никогда не бывают спокойны, всегда находятся в состоянии аффекта, то есть какой-то эмоции, страсти. И особенно бывает жалко смотреть на пожилых людей, которые никогда не отдыхают душой. Это неизбежный жребий, удел безмолитвенной души, не изучившей законов невидимой брани и поэтому являющейся легкой добычей для лукавого духа.
Святой Макарий Великий в своих беседах уподоблял сей мир некоему ситу, на котором человеческие души, подобно горошинам или зернам, находятся в непрестанном трясении, безостановочном движении. Притом, что, просеянные через это сито, они прямо падают в преисподнюю. Симоне, Симоне, се, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу (то есть, сатана хотел вовсе разметать учеников, развеять, как прах). Но Я молился о тебе… и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих (Лк. 22, 31-32). И вот, смеем утверждать, что люди неверующие, имеющие в себе дух противления Богу, по необходимости пребывают в состоянии трясения, движения, являются игралищем страстей. Иногда эти страсти замирают, как, например, замирает бульдог, который, схватив свою жертву за руку или за ногу, висит на ней и уже не двигает челюстями. Это есть состояние такого обманчивого покоя. А иногда страсти, напротив, ощеривают свой зев, и многие пожилые люди именно так зарабатывают себе инсульты, инфаркты, ишемическую болезнь, мерцательную аритмию, тромбы. Непременно по этой причине наше чрево испещрено бывает язвами; хотя, конечно, и питание у студентов такое спорадическое и по методу контрапункта: что-то где-то ухватил, и то ладно, а между тем организм нуждается в жидкой и горячей пище, да еще два раза на дню. Вот вам действие аффекта – страшно смотреть на пожилых людей, которые, если только благодать Божия неведомыми путями не посетит их, находятся в состоянии трясения, волнения, какого-то коловращения. Бывает, так и сходят в могилу, не улучив и минуты сердечной тишины. В этом проглядывает, несомненно, когтистая лапа лукавого духа, который сам находится в беспокойстве и в смятении, и людей заражает присущими ему пороками.
Итак, тишина чувства есть необходимая предпосылка произнесения, а прежде – рождения в нас слова, которое от Бога. Доказывают это многие изречения Писания. Самое краткое из них находим в Псалтири: В мире место Ему. В мире место Господу. Когда ходуном ходит сердце, волнуется кровь, чувства теснят одно другое, сердце сжимается от обиды и горечи или готово расплакаться от жалости к себе, если в душе, не дай Бог, гнездится недоброжелательство, неприязнь, то о каком рождении слова Божьего можно говорить? Нет, конечно, многие творят и пишут в состоянии аффекта, под наплывом лирического чувства, какой-то истомы, томления или саможаления, и от этого часто рождаются произведения определенного жанра. Однако это еще совсем не есть слово Божие, то слово, которое просвещает, питает, назидает сердца слушателей или читателей. Это совсем не духовное молоко – слово, рожденное в состоянии аффекта. Тишина чувств. Едва лишь в душе установилась эта тишина – подлинно Бог воцарися, в лепоту облечеся (Пс. 92, 1). Многие приводят здесь сравнение из мира природы. Чуть только уляжется ветер, утихнет буря, как в водах сердечных отразится самое Солнце и Небеса. Святые Отцы утверждают, что видение Бога подобно созерцанию вещественного мира посредством зеркала. Едва лишь душа придет в состояние относительной чистоты, как все зримое в глубинах сердца покрывают воды благодати, Божий лик готов отобразиться. Нам всем, безусловно, это благодатное состояние знакомо. Оно приходит всякий раз, когда мы с глубоким покаянием и надеждой на Господа, очистив совесть в таинстве исповеди, приобщаемся Святых Христовых Таин. Бог в месте святем Своем (Пс. 67, 6), – говорит об этом святой царь Давид. Когда Бог посещает по Своей неизреченной милости человеческую душу, наполняет сердце Своей благодатью, мы не спутаем этой милости ни с каким иным состоянием. Вот ясные, совершенно удостоверительные признаки пребывания души в благодати Божией, пребывания благодати Божией в человеческой душе. Признаки того состояния, которое можно именовать подлинно словесным состоянием – словесным, разумным, – когда человек вдруг становится богословом в доступной для него мере. Конечно, все это понимать нужно относительно, потому что по строгому воззрению Святых Отцов прежде очищения сердца и богословствовать-то не должно; кроме как к видению грехов своих, к иному созерцанию мы не призваны. Но в учебном порядке давайте все-таки поговорим о том, как воцаряется в душе состояние словесности, состояние разумности, состояние, рождающее в нас слово. Прежде всего – глубокий мир. Не такой мир, который приходит к нам от земли, то есть, когда мы бываем довольны удачным течением дел, когда чувствуем себя защищенными, когда нас посещают благие надежды, но мир Христов, тот, по слову апостола Павла, мир Божий, который превыше всякого ума (Флп. 4,7). Этот мир рождается, конечно, как следствие примиренности души с Богом, когда уже порушено средостение греха в таинствах Церкви и Христос открывается нам не как Судия только, а как врач, милующий, исцеляющий Свое создание, как Отец, награждающий вполне незаслуженно Своего сына теми наградами, что подробно перечислены в притче о блудном сыне.
"У кого на сердце мир, – говорит русский народ, имея в виду именно этот мир Христов, – тому и на каторге рай". То есть внешняя среда вовсе не все определяет для миротворца. Бытие не определяет его сознание; напротив, сознание миротворца видоизменяет бытие. Человек, не имеющий мира, тоже свои изречения составляет. Например, говорит: "Там хорошо, где нас нет". А где мы есть, там плохо, там вот эта тревога, смятение, там боль, там скорбь. Тому же, повторим, у кого на сердце мир, тому и каторга кажется раем.
Глубокий мир, являясь достоянием очищенной покаянием совести, рождает иное чудное дитя, именуемое радостью о Бозе Спасе – это слова из гимна Богородицы: Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем (Лк.1,46-47). Эта радость не имеет ничего общего с мирской самоудовлетворенностью, довольством, удачей, заставляющей человека хохотать, радостно хлопать окружающих по плечу и говорить: "Да мы с тобой горы воротить будем, знай наших". "Радость о Бозе" есть состояние внутренней полноты – такой полноты, которая каждое переживаемое нами мгновение делает бесконечно значительным, позволяет нам каждую малость осмыслять как Божию милость. "Радость о Бозе" сообщает тому, кто ее испытывает, очень ценные качества, необходимые для философа. Давайте назовем это качество умением видеть светлую сторону каждого явления. Это чрезвычайно важно не только касательно проповеднического искусства, но и вообще всей нашей жизни. Ведь вникнешь в себя самого, исследуешь собственное сердце, посмотришь на окружающих, послушаешь их речи, посмотришь на образ общения – и увидишь, что большинством из нас владеют, к сожалению, отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции – это все, что не живит, а мертвит, не просвещает, а помрачает; приносит не мир, а тревогу. Эти отрицательные эмоции неким облаком окутывают всего человека, и вот уже в словах его непременная ирония, сарказм, снисходительное осуждение, в глазах тоже нет ни благодушия, ни мудрой терпимости, ни жалости, ни сострадания, ни привета. В действиях судорожность. Эти отрицательные эмоции мучают человека, и наполненная ими душа все видит в искаженном свете. Исследуйте творчество современных художников и поэтов, модернистов и не модернистов – о чем они пишут, что наполняет их души? Все в их произведениях и мрачно, и тоскливо, и ужасно, и безобразно; совсем нет того творческого, зиждительного духа, о котором так говорил преподобный Серафим Саровский: Господь Бог Дух Святый радостотворит все, к чему ни прикасается. И когда в нас пребывает не вражий дух, не льстивый дух, не злой, не нечистый дух, а Божий Дух, то и все наше делание Им наполняется, и силы даются. Сказано: Словом Господним Небеса утвердишася, и Духом Божиим сила их (Пс. 32, 6).
Когда живет в нас Божий Дух или мы хотя бы отчасти причастны Его действию, тогда действительно мир преображается в наших очах. Точнее, мы начинаем видеть и осознавать в мире его богозданную красоту, а в действиях человеческих и в действиях сил природы прозревать Промысл Господень, доверять его премудрости и всемогуществу, ощущать радость. Это и есть то наслаждение и то блаженство, которое уготовляет Бог любящим Его. Если грешник, то есть не очистившийся от страстей человек в силу своего мировосприятия выводит какие-то свои законы в этом подлунном мире – например, закон подлости, по которому все идет наперекосяк: и автобус из-под носа уходит, и погода какая-то гадкая, промозглая, "и скучно, и грустно, и некому руку подать", – то для мало-мальски очищающегося человека мир предстает совершенно иным. Такой человек исповедует сердечно, что все неким образом находится в ведении Бога, имеет свою нравственную первопричину и нет в мире случайностей. Само развитие зла, попущенное Богом, ведет ни к чему иному, как к погибели этого зла и прославлению добра.
Вот когда знакомишься с мироощущением отца Иоанна Кронштадтского, то поражаешься, сколько же в его душе радости, сколько света, как он не устает благодарить Бога. Для него проживаемый день не есть какая-то серая обыденность. Отец Иоанн будней не знал, у него в душе всегда было торжество, всегда мажор, всегда жизнеутверждающая нота звучала. Как такого достичь? Конечно, это Божий дар, посылаемый в утешение, конечно, это плод внутреннего уединения, плод молчания, плод тишины сердечной, плод мирного сердца, из глубин которого рождается радость о Боге. Мне кажется, что состояние этой радости не есть нечто экстатическое, не есть то, что владеет человеком, неся его неудержимо по течению, нет. Но, находясь в состоянии этой радости, проповедник даже и готовиться к проповеди не обязан. Ему должно только поделиться тем, что он имеет, нужно только отворить сердце свое, а слушателям приклонить ухо, и вступит в силу закон сообщающихся сосудов, а лексические и словесные средства обязательно найдутся. От избытка бо сердца… глаголют уста человеческие (Мф. 12, 34). И действительно, когда мы не в духе, то есть унываем, чем-то придавлены, озабочены или расстроены, то, даже прекрасно зная подготовленный материал, все равно будем слова из себя выжимать, высасывать из пальца. И даже если удастся что-то выжать, то оно будет лишено внутренней силы, слова окажутся какими-то вялыми, в общем, будешь ощущать себя, как птица без крыльев. Примирись с Богом, хорошенько покайся, восчувствуй радость, которая бывает о едином грешнике кающемся, и отверзу уста моя, и исполнятся Духа 9.
Конечно, каждому из нас доводилось принять радость о Бозе – опять-таки по милости Божией, ибо заработать это земными средствами невозможно. Но если бы только нам удавалось подольше сохранять состояние примиренности с Богом, светлого восприятия всего того, что свершалось, свершается и будет свершаться с нами и нашими близкими, – как бы это благодатно сказалось на нашей жизни.
Но добавим еще нечто к характеристике указанного нами разумного состояния души, при котором рождается слово. Мы назвали: глубокий мир, радость о Боге – и дополним этот ряд таким свойством, как свобода, или отрешенность от земных пристрастий. Когда Тертуллиан 10, учитель первенствующей Церкви, называл душу человеческую по природе христианкой, он имел в виду то, что она не создана для обладания предметами видимого мира. Душа наша – жительница иного мира. Поэтому все земное здесь скучно ей, томится душа, как птица в клетке. И чем более человек умножает богатство, обладает предметами этого мира, тем более умножается в его душе печаль. Да и не только христианские учителя и ветхозаветные мудрецы, но и, например, древние индусские мыслители, или Сократ с его последователями, и все, кто мало-мальски размышлял над природой человеческой, убеждены, что страдания есть связанность души пристрастием, узами мира сего. И мы настолько привыкли к тому, что пристрастия постоянно высасывают из нас кровь, настолько привыкли ощущать себя прикованными к скале Прометеями, что даже свыклись с таким нашим несчастным, подлым, низким положением, свыклись со своей каторгой, но не стали от этого блаженны. И только в редкие-редкие минуты, когда по милости Божией вдруг на время спадет пелена с глаз и мы почувствуем, что между Отцом Небесным и нами нет уже никакого средостения, – вот тогда, мысленно оглянувшись, мы осознаем и ощущаем, насколько же мы измучены, как мы страдаем, как нам тяжело. Примерно так же бывает с заключенным в мрачном каземате узником, уже позабывшим солнце и небо, когда он, нежданно-негаданно получив свободу, выходит на пространство, залитое ослепительным светом. И в состоянии пристрастий, то есть прилепленности к земному, рождаются все искажения, подмены в области духовного слова. И как нам нужно бояться этой подмены, эти камни давать вместо хлеба, которого ждут от нас наши дети – наши слушатели; вместо яйца давать змею. Что греха таить – бывает, начинаем мы беседовать о Божественной любви, а на самом деле, погружены в чувственность. Беседуем о радости Богопознания, а на деле испытываем какую-то мутную радость обладания душами на почве гордости и самоутверждения.
Отрешенность от земных пристрастий, или состояние свободы в Боге, есть опытное вкушение заповеди Христа: И познаете Истину, и Истина сделает вас свободными (Ин. 8, 32). Именно отрешившись от земных пристрастий, мы становимся в состоянии созерцать мир таким, каким он создан, выносить о вещах справедливые суждения, проникать с помощью слова в сущность самих предметов, точнее определять их основные качества, познавать мир таким, каким он сотворен.
Отсутствие этой свободы преимущественно лишает проповедника дерзновения в слове. Малейшая уязвляющая душу страсть делает тебя немым. Вот почему священники так часто молчат, когда нужно было бы им говорить. Вот почему иные священники всегда молчат. Не потому, что они не знают, что сказать, а потому что не могут сказать, дерзновения не имеют. Апостол Павел утверждал, что Слово Божие не вяжется. Действительно, невозможно связать слово человека, обретшего во Христе свободу. Но это слово может быть повязано по рукам и ногам нашими страстями. Чуть только ты переел – и конец всему. Чуть только ты выпил лишнего – прощай дерзновение в слове: будешь болтать неведомо что, на смех окружающим. Уязвился прелестью лица человеческого – и у тебя в душе жмыхи, плевелы, а не пшеница. Пристрастился к чему-то земному, к предмету неодушевленному – опять сердце покрывается какой-то темнотою, мраком. Замечательный дар Божий – свобода, отрешенность от пристрастия – добывается потом и кровью. Точнее, мы, как рудокопы, должны искать этого дара. Но только Бог полагает его в сердце человека. От нас – поиск, от Господа – дарования. Притом, что Он, кого хочет, милует. Наш поиск не вынуждает Бога давать нам просимое. Но мы свидетельствуем Господу о готовности принять дар этим неослабным поиском, молитвой, покаянием, стенанием.
И, конечно же, когда все искомое вдруг по милости Божией обретется в душе – глубина, и мир, и радость, и свобода, тогда мы поймем, что такое любовь. Любовь – это царственная добродетель. Она венчает собою все. И когда душа из состояния рабыни усваивает служение царицы, тогда словно некая белая птица снисходит с небес и обретается в недрах души.
Любовь к Богу, как мы знаем, неразлучна с любовью к людям, созданным по образу Божию. И говоря о нашей аудитории, мы можем перечислить признаки истинной любви, то есть, духовные свойства этой Христовой добродетели, которую нужно отличать от земного плотского движения, часто именуемого тем же словом. Такая любовь, конечно же, познается в смирении перед слушателями. Наше смирение перед слушателями заключается в том, что мы сознаем себя поставленными им служить, мы сознаем себя должниками, которые должны отдать долг. Любовь учит душу видеть преимущества тех, кто нас слушает, воздавать им честь бульшую, нежели себе самому. Внутреннее смирение перед аудиторией есть, конечно же, необходимая предпосылка духовного общения. Если этого смирения нет, то вместо проповеди получается анекдот. Если этого смирения нет, то слушатели испытывают муку от общения с говорящим. Если у нас нет принципиальной установки на добродетель смирения, то мы никогда не выйдем из состояния какой-то неудовлетворенности, несытости. Вообще, отсутствие смирения делает человеческое общение фальшью, ложным самообманом, прелестью, мукой, иначе не скажем. Мука заключается в том, что говорящий занимается самоутверждением, то есть служит себе самому, во имя себя он пришел и сам себе награды раздает. Является не пастырем, и не наемником, а волком, приходящим, дабы расхитить стадо – то есть выкрасть из душ внимание, благоговение, радость, которые должны у нас быть обращены к Создателю, заземлить их в себе, возобладать этими душами, являя себя татем и обманщиком.
Любовь пробуждает такое замечательное качество, как бескорыстие. Бескорыстие по отношению к слушателю. Действительно, проповедник – это не хищник, проповедник отдает, но не стремится ничего восхитить. Бескорыстие, между прочим, проявляется в отсутствии даже самомалейшего психологического давления на аудиторию. Душа ведь очень чуткая, она сразу все даже не на понятийном уровне, а уже на уровне сердечных ощущений постигает. Едва только мы почувствуем, что нас прижимают, от нас чего-то ждут, хотят, требуют, то сразу же ощущаем, что здесь не то, не Божие начало, а иное, человеческое, а часто и демоническое, сопряженное с падшим человеческим естеством. Бескорыстие в данном случае есть признание, что перед вами Божия нива, Божие стяжание, а не мой двор, не моя паства, не бараны бессловесные; а овцы словесные, Христовы овечки, у которых свой Добрый Пастырь, такой же, как и у меня, свой Искупитель. А бескорыстие рождает еще одно проявление любви, которое можно было бы назвать великодушием. А можно назвать благородством.
Благородство. Великодушие. Действительно, если я бескорыстно созерцаю те сокровища, которые Бог вложил в Свои сосуды, если я умею радоваться тем дарам, которыми они, бессмертные души, почтены, если я вижу пред собой Царских детей, сыновей и дочерей, призванных к соцарствованию со Христом, как же мне проявлять по отношению к ним что-либо иное, кроме великодушия и благородства?! Какая у меня может появиться злоба, неприязненное чувство?! Какая у меня может появиться узость в подходе к человеку, коль скоро мы от полноты воспринимаем друг друга, а не от ущерба?! Если мне не нужно завладевать им – как говорил апостол Павел: ибо я ищу не вашего, а вас (2 Кор. 12, 14) , – то, стало быть, в отношении к человеку вместе со свободой и любовью будут проявляться те теплота и широта, которые, преимущественно, являются атмосферой христианского общения. Особенно это важно, когда мы приходим к детям. Потому что дети существа еще более открытые, богатые в духовном отношении, чем взрослые. И дети особенно нуждаются в этой царственной атмосфере, исключающей какое бы то ни было давление, ложь, фарисейство, менторство, эгоистическую дидактику 11. Детей просто нужно согревать, пробуждать в них чувства добрые, помогать им раскрываться в лучах любви Божией. И, безусловно, все просчеты и неудачи в общении с детьми брать на себя. А доходит ведь до того, что педагог, даже крещеный, возмущается, вслух называет детей дебилами, которые ничего не усваивают, ну как об стенку горох. "Ну что мы с вами целую четверть бились над извлечением кубических корней?! И где результат? Где понимание?! Я не вижу в ваших глазах желания ни учиться, ни молиться, ужас какой-то, убожество!" – искренно возопит некий горе-учитель, и мы, если уподобимся оному, провалимся вместе с ним в болото нелюбви, эгоизма, а также буквоедства, формализма и прочих педагогических просчетов.
Конечно же, словесное состояние души появляется в молитвенной стихии сердца. Отец Иоанн Кронштадтский утверждал, что он не может не молиться, что молитва для него есть второе дыхание. Молитва есть предстояние Богу, всегдашнее сопребывание с Ним. Молитва есть обращенность всего существа человеческого к Богу. И такое вот врастание в непостижимое до конца Существо Божие, сопряженность с Ним, пребывание с Ним, сроднение с Ним является внутренней проповедью, внутренним словом. Ибо молитва дает нам мысль, устремленную к Самому Богу, питающуюся Богом. Вот почему и слов-то особо не нужно там, где есть эта установка на молитву, хождение пред Богом, в Боге. Как говорил апостол Павел, ибо все из Него, Им, и к Нему (Рим. 11, 36). Именно через эту молитвенную стихию наше слово обретает ту внутреннюю ясность, простоту, силу, доходчивость, тот психологизм, то есть применение к сердцам наших ближних, к сердцам слушателей наших, что и дарует проповеднику искомое.
На этом мы завершаем размышления о предпосылках проповеднического искусства. Вам же я предлагаю поразмышлять о том, что конспективно здесь было изложено. И может быть, хорошо попробовать самим соединить все это в единый словесный портрет проповедника слова Божия, и в создании такого портрета объединить и распространить отдельные наши тезисы, показав внутренний мир проповедующего. Как бы опуститься мысленным взором в сердце проповедующего и начертать для себя такую программу духовного действия.
В искусстве речи, искусстве публичного выступления важны абсолютно все аспекты. Проповедник слова Божия должен уделять внимание внешним, вспомогательным по отношению к слову средствам, ибо он настоящий воин Христов, который готовясь к сражению, внимательно проверяет, чистит и шлифует до блеска все, даже самые мелкие детали своего боевого оснащения. Итак, сегодня мы будем говорить о взоре проповедующего, его жестах и вообще о его внешнем облике.
Конечно, если речь идет об устном общении, то немалым подспорьем для говорящего служат его ясные очи. Хотя этот вопрос достаточно тонкий и трудный. Как поступать с собственным взором? Как неопытный боец, прежде чем стрелять из винтовки, зажмуривается, так бывает и с нами поначалу. Ибо очень трудно одновременно и думать, о чем ты говоришь, и изучать, скажем, аудиторию, общаться с нею визуально. Поэтому часто бывает, что взор говорящего устремляется в одну точку и взгляд его становится фиксированным. Самое скверное дело, когда вы фиксируете взгляд на читаемом вами тексте, общаясь более с бумажкой, чем с живыми людьми. Вы свою речь тогда, даже читаемую выразительно, подсекаете на корню. Вот почему Петр I запретил читать доклады по бумажке, "дабы дурость каждого видна была".
Глаза могут также сослужить нам плохую службу, если говорящий растерян и взор его блуждает, как злой дух, не имея места, где бы поселиться, за что бы зацепиться. Такой растерянный взгляд, конечно, выдает душевное волнение или томление. В лучшем случае докладчик вызывает к себе жалость, и то у наиболее совестливой и мудрой части своей аудитории. Бывает, конечно, иные ораторы пользуются своим взором, как нейтронным или психотропным оружием. К числу таких принадлежат школьные опытные, но бездушные учителя, которые могут взглядом испепелить или пригвоздить к стене, или просвечивают вас насквозь, или еще что-нибудь делают далекое и чуждое гуманности и человеколюбия.
Есть такой взгляд, от которого невольно сжимаешься и душа уходит в пятки. И бывает, что если у человека недостаток деликатности, то он согрешает взором, ибо через глаза, безусловно, происходит общение душ, но общение может и быть заквашенным греховной страстью. Вот почему в каталоге грехов есть и такой: бесстыдное, дерзновенное взирание. "Пялить зенки" неблагочестиво, ибо иной телом чист, а взором любодействует, и, безусловно, чем более душа скромна и целомудренна, чем она духовнее, тем она осторожнее с чужими взглядами и со своим собственным взором. В человеке обличается, безусловно, недостаток чистоты, недостаток благоговения, в нем не хватает непосредственного общения с Богом, когда он устремляет на кого бы то ни было взор жалобный, или исполненный негодования, или обиды. Истинному христианину свойственно не столько с людьми беседовать, сколько с Богом. Вот почему в глазах человеческих заключена некая тайна. Это тайна Богообщения. Тот, кто очи своей души устремляет ко Господу, тот, конечно, весьма осторожен, как мы сказали, деликатен и использует свой взор (точнее, пользуется им) для целей педагогических.
Опытный докладчик или оратор, проповедник, конечно, умеет аудиторию обводить взглядом. Или время от времени он зафиксирует, остановит свой взор, бросив его куда-нибудь на передние ряды или на задние. Не то чтобы он делал это с каким-то математическим расчетом, нет. Сама педагогика на то нас настраивает, но людям, конечно, становится сразу очевидно, что говорящий общается с ними. Они гораздо живее усваивают это слово, видя перед собой мыслящие, исполненные внутренней жизни глаза. Но, по большому счету, это вещи второстепенные, которые сами собой придут. Главное наше внимание, безусловно, должно быть обращено на духовные качества нашего слова, на умение это слово донести, а все остальное приложится. А коль даже не приложится, мы-то человеку простим ради самого словесного служения. Иной вообще прячет взор. Но нам ценно в человеке не искусство психологического общения, не применение какого-нибудь исполненного американского прагматизма "метода Карнеги" – но нам важно видеть перед собою нелицемерного человека, который верит в то, что он говорит, который сердцем исполняет запечатленное в слове и с известной степенью сердечности хочет донести это слово до слушателя.
Итак, мы добрались до облика говорящего. Во внешнем облике проповедующего, того, кто имеет дело с народом, не должно быть ничего случайного. Недаром существует поговорка, что "по одежке встречают". А иногда по одежке и провожают. Можно, конечно, быть дельным человеком, заботясь, как Онегин, о красе ногтей. Но православные люди в этом смысле лишены внешней позы, эффекта, они не силятся производить впечатление. У православного должно быть все опрятно и естественно. Он не должен никому ни в чем подавать претыкания. Каждый из светских проповедников (т.е. из лиц, не облеченных духовным званием) должен найти некоторый стиль, сообразный с аудиторией и с предметом речи, чтобы не было диссонанса, дисгармонии в нашем внешнем облике по отношению к нашему слову.
Скажем, если лектор читает догматическое богословие, которое по строгости мысли, точности формулировок может быть сравнимо с математикой, то странно было бы видеть на нем свитер, обвисший джемпер и любую другую подчеркнутую небрежность в одеянии. И напротив, уместной была бы брючная пара, беленькая рубашечка, галстук. Не нужно видеть в последнем обязательно масонскую удавку. Все это как нельзя более сообразно с предметом речи. Учителя вообще в этом отношении должны быть очень внимательны, потому что все дети (а студенты – те же дети), едва лишь найдут что-нибудь одиозное, что-то выбивающееся из круга обыденных впечатлений, тотчас вас высмеют и даже найдут вам прозвище в соответствии с какими-то странностями в туалете. И вообще, не получить кличку в процессе преподавания – это дело только милости Божией.
Хорошо священникам. Они одеты в рясу, которая в цветовом отношении находится по ту сторону спектра. Я вот утром-то приготовил взять с собой рясу, но в спешке вдруг обнаружил, что у меня ее нет, и поэтому явился перед вами не во всем вооружении священническом. Надеюсь на ваше великодушие и прощение. Священник не должен, по канонам, появляться в подряснике на людях. До революции священники, принимая прихожан, всегда надевали рясу. На Афоне подрясник воспринимается как нижнее белье. В храм монах не войдет в подряснике. Обязательно рясу наденет. Вообще ряса указывает, что священник вещает вам из вечности. Служитель алтаря должен умереть для страстей этого мира, дабы нести жизнь, и жизнь с избытком, жизнь вечную.
А вот мирской туалет, безусловно, должен быть продуман. Мужчинам, конечно, легче в этом отношении, а дамам, как существам более взыскательным и притязательным, не грех позаботиться о своем внешнем виде. Какие-то скромные, хотя и гармоничные тона. Напрасно видеть в православной христианке этакую серенькую мышку, прибитую и затрепанную. Не нужно подделываться под пещерников и столпников нашим дамам, особенно тем из них, которые приходят преподавать в гимназию к детям, обвязавшись, как морской боцман, четками – по шее, по плечам. Есть такая скульптурная группа: Лаокоон и сыновья. Змея там обвивает папу с детьми. Не нужно все-таки перевязывать себя канатами четочными. Молись, да втайне, чтобы Отец воздал тебе явно.
Может быть и другая крайность, когда женщина надевает туфли на очень высоких каблуках и юбку, хоть и длинную, но с разрезом до колен и выше. И над прической своею целый час перед зеркалом трудится с тем, чтобы только слегка прикрыть ее легким шарфиком шелковым, выставив тут локон, там завлекалочку. А блузку наденет, хоть и беленькую, и даже с длинным рукавом, но всю насквозь просвечивающую, так что все под ней доступно для нескромного глаза. Чего она этим добьется? В лучшем случае привлечет внимание представителей противоположного пола при циничном отношении с их стороны к любому слову, сходящему с ее уст. А женщины церковные ее вообще слушать не станут, т. к. даже голос ее станет вызывать отвращение. В худшем же случае такая проповедница научит и взрослых, и, что страшно, детей двойной морали. Один ее внешний вид будет утверждать, что говорить можно одно, а делать совершенно противоположное, проповедуя – любодействовать.
Нет, православной христианке, дерзающей учительствовать, нужно найти счастливую середину между современной модой и церковностью, между светскостью и духовностью. Это дело не только гигиены, но и вкуса. Поэтому о. Павел Флоренский говорил, что одежда является продолжением и как бы неотъемлемой частью личности говорящего. Безусловно, нам в это демократическое время должна быть присуща некоторая строгость, выгодно отличающая нас от тех риторов и трибунов, которые намеренно держатся развязно, заигрывая с аудиторией, втайне ими презираемой. Мы призваны уважать в собеседнике личность, существо мыслящее, критическое.
Еще более существенным фактором является самая стать, поза проповедующего. Ему, безусловно, не только не грешно, но, если время позволяет, нужно заниматься гимнастикой. И не только гимнастикой, но и ритмикой. Потому что все ваши движения привлекают к себе внимание. Хорошо, если вы в школьные годы проходили ритмику и учились танцевать менуэт – врозь мысочки разводите, двигаетесь изящно, словно держите под ручку испанскую принцессу. А если кряквою будете ходить, качаясь на ходу, если движения ваши будут угловаты, резки, порывисты? Если лопатки на спине будут выступать, как крылышки подрезанные? Что это будет? Стало быть, проповедующий должен держаться просто, естественно, не сжавшись в комочек нервов, но вместе с тем и без дерзости.
Осталось сказать о жестикуляции. Жест – это нечто органически соединенное, вытекающее из самого речевого действия. Бывает, маленькие дети в детском саду готовят к 8 Марта монтаж. И учительница, желая блеснуть перед родителями и прочими воспитателями, еще детей и жестам учит. Это всегда бывает очень умилительно, потому что по-детски фальшиво получается. "Дорогие мамы, мы вас приглашаем!" (выбрасывает вперед правую руку). А она смотрит с нежностью... "С любовью великой сегодня вас встречаем!" (обе руки поднимает вперед и вверх). Конечно, такой жестикуляции нам не нужно.
Думается, что православный проповедник должен быть умерен в жестикуляции, потому что мы с вами весьма скромны в отношении всяких психологических приемов. Зачем нам это нужно? У нас слово-то говорит само за себя. Зачем нам внешние прикрасы? Но педагог, конечно, всегда хочет не только рассказать, но и мимикой, жестом сделать свое слово выразительным, если речь идет о камерном общении, об общении с детьми, если перед нами живой человек, а не человек в футляре. Да и тот, если вы помните, говорил "anthropos". И в этом смысле жест может быть логическим завершением тирады. Как бы нематериальное слово находит материальное воплощение, потому что лучше один раз увидеть, чем шесть раз услышать. "И вот предстал перед нею архангел" (руками рисует в воздухе крылья ангельские с зазубринками по краям).
Безусловно, главное для нас – это руки, с которыми хотелось бы изначально разобраться. Куда их девать? Ибо часто они мешают говорящему, и он занят только тем, чтобы их каким-то образом нейтрализовать. Недопустимо становиться в позу Адама, изгнанного из рая, который, увидел супругу и что они наги, и "стыдяшася" (изображает эту позу, сцепив руки внизу). Позы всегда говорящие. Они раскрывают устроение души человека. Совершенно не случайно Ленин большой палец крючком засовывал за безрукавку, не случайно какой-нибудь ведущий популярной программы одну руку засовывает "в правый пиджак" (это, кстати, очень неудобно). Это поза самоутверждения: небрежно сунуть одну руку в карман, а другой рубить при каждой фразе, наподобие того, каким останавливают машины преуспевшие юнцы (показывает).
Вообще, жесты весь характер выражают. Пришел человек в какой-нибудь фешенебельный ресторан на Елисейских полях и эдак небрежно щелкает пальцами: "Эй, человек!", – сразу видно: из России. В Европе так не принято щелкать. Нет. Там: "s`il vous plait, monsieur, – пожалуйста, – vous en prie". Да... Нехорошо православному педагогу сидеть на столе, болтая ногами, как демократы это демонстрируют. Ни в коем случае нельзя делать никаких непроизвольных, неосознанных вами, бессмысленных движений, ибо вы рискуете очень многим. А именно на этих движениях – импульсивных, конвульсивных – сосредоточивается все внимание ваших слушателей. Мне, например, родственница (она преподает сценическую речь) рассказывала, что у них в школе преподавательница, особо увлекшись пересказом событий из "Поднятой целины", вдруг стала указательным пальцем тереть за ухом. И так терла, что дотерлась до катышка, который непроизвольно стала катать по столу. И все напряженнейшим образом следили за этими ее движениями, совершенно забыв о содержании рассказа. Нет, ни в коем случае нельзя изображать никаких притираний, никаких интимных движений, сохрани Бог! Потому что они могут привиться человеку: пощелкивание пальцами, выгибание, поглаживание спинки стула собеседницы. Ни в коем случае! Это же относится и к постукиванию ногой в такт речи или музыки, к подрагиванию коленкой, к покачиванию на стуле. Может привести просто к нервному тику, если годами человек так преподает и в ус не дует.
Что еще вам сказать о жесте? Мы видим, что и в Божественном Писании, в Ветхом и Новом Завете пророки и апостолы использовали жесты очень скромно, но всегда победоносно. Христианин должен избегать излишеств итальянской жестикуляции или других телодвижений, свойственных жителям острова Мумба-Юмба (показывает). Жест, как уже сказано, является логическим завершением мысли. Жест помогает сконцентрировать внимание на самом существенном.
Вспоминаю, как молодым учителем я подвергся приходу из районо парада методистов, которые задались целью, как я впоследствии узнал, выжить меня из школы. Времена были застойные, и директор боялась, как бы чего не вышло – молодой педагог, не комсомолец. Впрочем, мне не инкриминировались прямо религиозные убеждения. После хорошо, как мне казалось, проведенного урока мы в кабинете директора все сели. Я был убежден, что все в порядке. Никогда в жизни я с такой обструкцией не встречался. И главный методист – такая грузная дама – встала, а вокруг нее сидели преданно смотрящие ей в рот методисты младшего звена, и я стоял перед директорским столом. До сих пор помню, как она идеально владела жестикуляцией, мимикой и жестом: несомненно, была прирожденным оратором. И вот она встала и сказала: Товарищи! (Пауза. Вот это надо уметь – замагнетизировать, заворожить аудиторию так, чтобы каждый почувствовал, что он должен напрячь внимание.) – Товарищи! Много, много за нашу плодотворную районную жизнь мне приходилось посетить школ, и многих мы видели молодых специалистов. Видели тех, которые, что называется, от Бога. И когда нам не удавалось сразу помочь молодому педагогу, то общими усилиями (жест собирания всех в одно) партийной, профсоюзной, беспартийной общественности мы умели извлечь, что называется, рациональное зерно (пальцами, сложенными щепотью, поднятой вверх, как бы показывает это зерно) из оного педагога, но (с сильным ударением... пауза... – просто наслаждение было смотреть на нее!) но такого мрачного и безобразного впечатления (чувствуете, как здесь сонорные звуки действуют?), такого мрррачнного и безотрррадного впечатлления, какое нами вынесено после урррока товарррища Владиммиррова, у нас не было ни-ког-да! (палец описывает дугу и опускается вниз. Этот указательный палец с нанизанным на него золотым перстнем теперь мне даже во сне иногда снится).
Понимаете теперь, что такое жест, который умеет подкреплять слово, выражать и логически завершать его?
В завершение нашей беседы о том, каким должен быть православный катехизатор и проповедник, давайте запомним несколько простых, но чрезвычайно важных правил.
1. Никогда не опаздывай и не пропускай встречи, на которой тебя ждут жаждущие духовного слова!
2. Наблюдая за жизнью мира, лежащего во зле, не омрачайся плодами своего наблюдения. А самое главное, сохраняй веру в то, что Христово есть Царство и сила и слава. Очень важное правило.
3. Желая быть нравственно совершенным, не приходи в уныние от сознания своей неисправности. И не говори: "Что пользы от моего покаяния, если сегодня я еще хуже, чем вчера". Знай, что от Господа стопы человеческие исправляются. Даже если ты ежедневно согрешаешь в одном и том же, кайся с несомненной надеждой, и Ангел Хранитель почтит твое терпение и мужество в ведомое Богу время. Из множества твоих ошибок и падений ты извлечешь драгоценный духовный опыт, который ляжет в основание твоих проповедей.
4. В наше время крайне важной является возможность разглядеть и показать людям за политической, экономической, экологической и прочей проблематикой нравственную подоплеку.
5. Помни, что твое слово никогда не понесет в себе более твоего сердца, поэтому, проповедуя другим, усмиряй и порабощай свое тело, дабы самому не оказаться никуда не годным 12.
6. Не забывай, что самое главное для слушателей – чистота твоего сердца.
7. Меньше обличай. И вовсе никого не осуждай. Но стремись приносить слушателям подлинную радость, если, конечно, имеешь, чем с ними поделиться.
8. А вот еще одно правило – Александра Сергеевича Пушкина. Истина в отвлечении от любви перестает быть истиной, – изрек некогда наш великий поэт.
9. Твое отношение к слушателям должно быть вполне бескорыстным. Не ставь задачи сегодня убедить их в истине твоих слов, но более доверяй благодати, о которой свидетельствуют твои уста.
10. Подобно апостолу Павлу, почитай себя должником слушателей, но никак не благодетелем.
11. Помни, что твое слово о святыне вовсе не делает тебя самого святым, посему будь готов к исповеданию всегдашней немощи своей пред слушателями.
12. Если твое слово не приносит ощутимой и сознаваемой тобою духовной пользы, то ты говоришь не Божие слово, а человеческое. И горе тебе, если ты, говоря человеческое, не можешь остановить себя.
13. Если ты говоришь правильно и по Богу, то более всего да будет тебе желанно уединение и молчание.
14. Сказав нечто, не забывай либо благодарить Бога, либо просить у Него прощения.
15. Как бы ты хорошо ни говорил, с какой бы пользой ни проповедовал, помни, что самое великое назидание слушатели получают от молитвы, или собеседования с Богом.
16. Ну и последнее. Мало хорошо начать. Важно продолжить и завершить дело во славу Божию. Пусть твоя душа будет подобна вечнозеленому мирту, сочные и блестящие листья которого никогда не вянут, но который, будучи насыщаем внутренней влагой, всегда силен и свеж, всегда веселит очи смотрящих на него.
1. Слово, обращенное к супругам
Тема супружества чрезвычайно ответственна. Даже иные священнослужители, особенно недавно рукоположенные или из монашествующих, смиренно расписываются в недостатке компетенции в этом вопросе и не рискуют выступать перед теми, кто ищет такового разъяснения.
В наше время нередко взаимоотношения супругов складываются непросто и даже драматично. Между ними возникает множество противоречий, коллизий, нестыковок, столкновений. И объясняется это весьма просто – либо возросшим донельзя самолюбием, общим родимым пятном падшего человечества, либо полным отчуждением от Божественной Благодати. Что справедливо в случаях союзов, чуждых освещения, чуждых венчания, чуждых христианской нравственности.
Конечно, трудно предположить, как благочестивый юноша, закончивший духовное учебное заведение, взялся бы рассуждать о добродетелях супружеских с людьми, "порадовавшимися на своем веку". Ибо им эта область может быть изучена теоретически, но ни в какой учебник нравственного богословия, конечно, невозможно вместить того многообразия мыслей, чувств, отношений, что выпадает на долю состоявшихся супругов. Не говоря уж о весьма деликатной области плотских отношений, которые в православии именуются жизнью по плоти, или родовой жизнью человека.
Священнику нередко приходится размышлять о семейной жизни, потому что и сам он человек женатый, и большинство прихожан его ведут семейную жизнь. Я недоумеваю и иногда с горечью изумляюсь, как же враг рода человеческого усердно работает, не зная ни выходных, ни санитарных дней, сея плевелы отчуждения, разобщения между теми, кто, по Евангелию, является единой плотью, единым организмом, общностью о двух лицах. Почему в нашей земной жизни так складывается, что часто супруги, призванные быть не разлей вода, глядят, как лебедь и щука, или лебедь и рак, и тянут в разные стороны арбу семейной жизни. Виновато, конечно, уже названное нами самолюбие и, безусловно, сознательное намерение врага рода человеческого вносить рознь туда, где должны царствовать взаимопонимание и любовь. Вот почему от третейского судьи, от человека, который обращает слово к супругам, требуется глубокий внутренний мир и равновесие души. Но и этого мало. Нужна еще и та благодатная мудрость, добрая искушенность, опытность. А прежде всего – примиренность собственного сердца, следствием которой является, в частности, и примиренность интонации. Одним словом, нужна любовь. Только лишь обладая энергией любви, мы сможем привнести что-то в разворошенный, как муравейник, разоренный мир чужой семейной жизни. Ведь, как правило, в ней третий лишний. Безусловно, если мы говорим о священнике, то последнее не о нем сказано. За него ходатайствует, ему вспомоществует, его укрепляет благодать священства, отцовства, благодаря которому он может положить свои руки на плечи бедным супругам, измученным вконец неразрешимыми противоречиями, и сказать им мудрые, добрые, действенные слова, чтобы в их жизни снова воцарились мир, спокойствие и любовь.
Когда мы ведем речь о двух любящих и спаянных самой жизнью людях, муже и жене, будем памятовать, что у каждого из них есть своя правда, свое видение жизни в целом, ситуации в частности. И редко-редко когда один из супругов злодей, а другой агнец. Ибо нет в мире человека безгрешного. В конце концов, эти двое некогда встретились, полюбили друг друга и сделали свой жизненный выбор не с завязанными глазами. Поэтому что же пенять на свою половину, коль скоро ее мнение, суждение, обыкновение нынче совершенно не совпадают с твоими. Сам выбирал. Сам давал согласие. У каждого из супругов есть своя правда. Но, безусловно, есть и своя ограниченность, присущая каждому сотворенному существу, а уж тем паче существу падшему, каковы мы все в Адаме. Вот эта самая ограниченность и доводит подчас до белого каления кого-то из супругов, забывших мудрые слова нашего Спасителя: Носите бремена друг друга и так исполните закон Христов (Гал., 13, 34). Носите бремена друг друга! То есть, принимайте человека с его ограниченностью, с его очевидной для всех, кроме него самого, немощью.
Любовь и есть та энергия, которая, исходя из глубины просвещенного духа, позволяет видеть ограниченность и немощь ближнего и покрывать ее великодушием, терпением, неосуждением, добродушием и всеми прочими благими расположениями христианского сердца.
Говоря о словесном общении супругов, приходится с горечью признать, что оно очень быстро скользит по наклонной плоскости. А иногда и камнем падает в пропасть. Я имею в виду крайнюю недолговечность того возвышенного, теплого и ласкового языка общения, который свойствен влюбленным в период жениховства, ухажерства, влюбленности. Само по себе это явление доброе. Я имею в виду умение отыскивать теплые, добрые слова для того, к кому мы неравнодушны. Но пусть это явление будет искренним, и пусть это будет действительно натурой человека. Этическая культура супругов, в частности, проявляется и в том, чтобы сохранить на высоком уровне стиль своего общения, чтобы с помощью доброго и ласкового слова, по крайней мере, восстанавливать те чувства, которые претерпевают известный ущерб с течением времени. Восстанавливать добрые, светлые и радостные отношения.
Жаль тех супругов, у которых происходят необратимые изменения в их общении, в том числе, словесном. Жаль тех супругов, которые теряют желание, навык, а потом и способность говорить друг с другом по-человечески, общаются тычками, окриками, бурканьем, шипением, бухтением – языком обитателей джунглей. Ах, дорогие братья и сестры, если бы вы знали, как важно не опускаться до этой словесной пальбы и стрельбы, но выражать свои естественные желания русским языком с английской учтивостью.
Приходится еще и признаться, что потерявшая воодушевление супруга часто в своих высказываниях бывает куда более колким ежиком, чем ее глава. Думаю, что сейчас телевизор в немалой степени способствует опошлению нашего языка и наших нравов. А веду все к тому, что, обращаясь к этим битым воробьям, тертым калачам – супругам со стажем, мы, конечно, должны стараться нести им доброе, высокое, но не искусственно приукрашенное слово, стараясь воскресить в их памяти все лучшее, что было в их совместной жизни. И на практике убеждаешься, что, когда говоришь по-доброму, когда говоришь хорошим русским языком, которым, возможно, современные супруги в быту и не владеют, это очищает сознание и как бы воскрешает в душах святыню брака, ущербляемую нашим ежедневным взаимным если не хамством, то грубостью, огрызанием по малейшему поводу, привычно не замечаемой неблагорасположенностью, недобротой, проявляющейся, в частности, и через слова.
А сколько всего льется на нас из телевизора?! В том числе и когда современные семейные драмы показывают. А народ, уставший от агрессивных боевиков и детективов, сегодня, как замечают обозреватели, тяготеет к семейной драме, к саге, хочет чего-то мирного, спокойного. Однако эти семейные саги нового типа иногда так огорошивают, в такие словечки облекаются – только держись. Вот некая умудренная дама утешает главную героиню по поводу неверности либо легкомысленного отношения к супружеству ее мужа: "И что ты, глупая, хандришь? Ты что, мужиков не знаешь?" – и дальше такими словами выдает свои мысли о мужской природе, какие не услышишь в бараках женского отделения мордовских лагерей. Это тем более плохо, что у нас народ берет пример с актеров и актрис, они являются своего рода примерами в нашем обществе. Это, конечно, беда. Потому что демоны преимущественно занимаются этой областью плотской любви, отравляя сознание людей матерными выражениями и циничными словесами, которые соотносятся с реалиями половой жизни, и умерщвляют душу, навевая грязь и пошлость в ту область, которая, на самом деле, свята, чиста и богоугодна. И вот мы, священники, по долгу службы обращающие слово к супругам, убеждаемся с печалью для себя, насколько развращено словесное языковое сознание молодых людей нашего времени. И как непросто реставрировать это сознание. Как непросто обрести душе целомудрие и, соответственно, бережное слово, которое будет дышать этой Небесной добродетелью.
В супружеской жизни важно проявлять попечение о чистоте словесного общения. Ибо в русском языке достаточно слов, понятий, словосочетаний, выражений, используя которые мы будем говорить свободно на любую тему, связанную с супружеством, не рискуя повредить даже самое взыскательное ухо, а вместе с тем оздоравливая внутренний мир людей.
Русский народ исстари считался одним из самых целомудренных в мире. Стыдливость, целомудрие, скромность – это те одежды, в которые облекалась православная душа с детства. Многие исследователи культуры считают, что это является следствием особого почитания нашим народом Пречистой Девы Марии, особенно благоговейного отношения к святыне девства. Оттого и к супружеству у нас всегда относились с почитанием. Однако пришли иные времена, и многое изменилось в мире и в русском народе. В лихие годы матерный лексикон был внесен Красной армией и вообще всей новой исторической общностью в быт России, растленной до основания, в том числе и этим демоническим новоязом.
Теперь обратимся собственно к словесному назиданию супругов. Трудно себе представить какую-либо лекцию, обращенную к семейным парам, собранным в аудитории. Как правило, такое наставление случается с глазу на глаз, от уст к устам. Хотя, конечно, на данную тему можно и должно говорить с общественной трибуны. Священники сейчас нередко по необходимости выступают по этим проблемам и, готовя молодежь к подвигам супружества, безусловно, берут на себя очень важную миссию рассказать, что такое хорошо и что такое плохо в браке в свете отношения православия к этой стороне жизни.
Но мы поговорим о некоторых особенностях этого словесного назидания. В нашем случае полезно, в частности, использовать знакомые и нашим слушателям поэтические отрывки, фрагменты из вошедших в культурную сокровищницу русского человека произведений, которые лучше всего выражают тот или иной аспект жениховства или супружеской любви.
Недавно, будучи в гостях, я увидел, что домочадцы смотрят по видеомагнитофону фильм "Двенадцать стульев". Я читал еще отроком это произведение, очень занимательное для советской литературы. Сейчас, конечно, иначе на него смотришь. Но оно в значительной мере отравлено совершенно не русским духом. Произведение глубоко атеистическое, циничное, хотя не лишенное остроумия. Но главный герой этого произведения Остап Бендер, великий комбинатор, тоже не чужд был нежных чувств. Однако он оказался не на высоте. Обманул свою невесту. Принес ее в жертву призрачным миллионам. А потом, рассказывая о том, как он ее любил, в частности, вспоминает то, что и мы вспоминаем, когда нам нужно воскресить в погрубевшей душе мужа светлые, радостные воспоминания о его избраннице.
"Батюшка, – жалуется один из прихожан, – ну что она мне плешь проедает? Я ей говорю: "Ну, верен я, верь. Вот при свидетелях клянусь. Но могу себе позволить что-то. Но верен. А она меня достает всячески", – и так не по-доброму смотрит на ту, которую когда-то прижимал к своей мужественной груди. Вот батюшке и нужно этому неандертальцу каким-то образом вернуть мягкость сердца. "А скажите, вы четырнадцать лет назад как-то изъяснялись вашей лучшей половине в любви?" – "Ну, было". – "А читали ей стихи?" – "Да я, вообще-то, не поэт". – "Это ясно. По первому взгляду. Ну, что-нибудь по школьной программе? "Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты".
И вот интересно, когда по-доброму, без всякой актерской патетики это четверостишие прочтешь, как ни странно, очень часто у людей мгновенно теплеет сердце. Не потому, чтобы само стихотворение так влияло. Наверное, все зависит от расположения и от вашего стремления что-то вдохнуть в сердца. Но слова-то сами по себе прекрасны, совершенны. А главное, что они уже имеют жизнь самостоятельную в языковом пространстве России. И вы видите, как мягчеет сердце. И сами бы вы никогда не могли, может быть, изобрести ничего. А вот с помощью этого четверостишия добиваетесь многого.
Представьте, что к вам на исповедь приходит женщина среднего пожилого возраста со следами былой красоты на лице. А у нас аналойный столик с крестом и Евангелием стоит как раз напротив "Всецарицы", чудотворного образа, источающего благодатную помощь страждущим от всяких бед и напастей, в том числе и онкологических заболеваний. "Батюшка, я, вообще-то первый раз". – "Но не последний?" – "Да, не последний. Все плохо. Что-то жизнь превратилась в одну черную полосу. Муж в Чечне ранение получил. Сыночка в электричке скинхеды побили. Слава Богу, жив остался. Да вот еще мне операция предстоит. Боюсь, как бы не онкология. Вы представляете себе, батюшка?"
Да, священники на исповеди стоят не для того, чтобы находить соответствующую статью из кодекса нравственности и морали. Они должны, конечно, посочувствовать. А посочувствовав, расположить человека к дальнейшему исповедальному разговору. "Да, тяжело вам. Подумать только, какие беды на вашу светлую голову свалились". – "Эх, батюшка, была бы светлая…" Человек уже, значит, как-то со стороны смотрит на себя. "Ну, раздражаетесь иногда?" – "Да нет, я вообще спокойная. Если кого-то ненавижу, то тихо. Никто не догадается". – "Но, знаете ли, лучше бы, наверное, сразу выговориться. Прости, Господи, и помилуй". И так вот вы беседуете с человеком. Мало-помалу область его жизни раскрывается. Наконец, доходите до самого больного пункта. Это общее место сейчас у постсоветского человека. (Я беру обобщенный пример, тут не выдается тайна исповеди.) "А вот за годы вашего союза (не говоришь, супружества, потому что не венчаны, конечно, хоть и крещены) вам всегда удавалось сохранять верность?" – "Батюшка, вообще-то никогда не удавалось". – "А сколько раз не удавалось?" – "Это как?" – "Ну, сколько их было, таких летучих голландцев?" – "Ну, батюшка, вот на двух руках хватит". – "Но это поезд уже ушедший?" – спрашивает с надеждой священник. "Да нет, батюшка, в коммуне остановка". – "Как? И до сих пор?" – "Да, мы выходим вместе гулять со своими собачками". – "То есть, до сих пор это имеет место?" "Имеет, батюшка, имеет. Он с женой не живет". – "Но они так все говорят". – "Как же так, матушка моя? У мужа ранение в Чечне, а вы так ведете себя. Может, это из-за такого вашего поведения и случилось". – "Это, – говорит, – со мной не связано. Это он сам подорвался на мине". – "На ребенка скинхеды накинулись, – продолжает священник. – Да и вот у вас такой звонок из Небесной канцелярии. Операцию делать через неделю. Еще что там найдут. Это же ясное свидетельство, что надо что-то менять. Или я говорю неправильно?" – Она отвечает: "Да, нет, правильно все говорите, батюшка. Потому и пришла". Кажется, что уже священник добился победы. Ан нет. "Ну, батюшка, мы уже пятнадцать лет дружим. Это еще до того, как я со своим майором свадьбу сыграла". – "Но неужели вам не видно, что вы правой рукой созидаете, а левой разрушаете? Вы желаете себе здоровья?" – "Ну, конечно. И кошка желает себе здоровья". – "Так как же вы пришли молиться о благополучном исходе операции и хотите взять благословение, а от греха не отступаете? Ведь ясно же, что нужно. Можно дружить с ним. Пожалуйста. Я вот тоже с вами дружу. И люблю вас по-хорошему. Но если с ним продолжать отношения, то добра-то чего же ждать?"
Вот вам немощная природа женская. Ну не хочет она отстать от этого греха. А может быть, хочет, но не может. Вот и остается только один последний козырь, в который вы должны вложить всю свою душу. Это четверостишие из Тютчева, которое я привожу, чтобы оживить героиню нашего рассказа. "А не находите ли вы, что с нами случается все по четверостишию русского поэта?" Делаете риторическую паузу и потом произносите: "О, как убийственно мы любим, как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей". И вот представьте себе, – говорите вы далее, – не дай Бог, сейчас перекрытие упадет нам на голову, и мы все, герои этой истории, у Престола Божия окажемся: вы, ваш супруг, голландец летучий, который с женой, как он говорит, не живет, и я. И вы думаете, мы в белоснежных ризах предстанем пред взором Судии, сказавшем: Брак у всех да будет честен и ложе [супругов] непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог (Евр. 13,4).
Вот так и ведешь эти – не дуэли, конечно, но диалоги, желая-таки помочь человеку душою умягчиться, посмотреть на себя со стороны. И изречь: "Отче! согреших на Небо и пред Тобою (Лк. 15,18).Иду ко Отцу моему с покаянием".
Говоря о супругах и о том, почему нужно беречь семейный мир, единомыслие, священник имеет еще один козырь. Это дети. Дети, которые совсем не заслужили вечной розни, вечного лая, шипа и рыка тех, кого ребенок готов назвать богами. Родители, говорили в древности, это домашние боги. И ради детей мы, конечно, должны быть готовы на все доброе, хорошее. Ради детей, если не ради Господа (а прежде всего – ради Него), должны приносить в жертву собственное самолюбие, всю свою болезненную индивидуальность. И, наверное, самым сильным козырем в увещевании матери или отца к выправлению их жизни из безнравственной в нравственную является указание на взаимосвязь между отцами и детьми. Дети тысячью незримых нитей связаны с родителями. И даже их физическое здоровье в большинстве своем зависит от образа жизни родителей. На детях Господь показывает родителям все. Не потому, чтобы дети были экспериментальной площадкой, нет. Господь хранит младенцев. Но верна пословица, что яблочко от яблони недалеко откатывается. Дети, по существу, – это один из членов тела супружеского, и член ближайший.
В большинстве своем, конечно, у креста и Евангелия родители не ведут идейных споров со священником. Они приходят с открытым сердцем. Иногда сама скорбь отверзает его. И готовы принять все, что скажет пастырь. Идут, конечно, с сокрушением, с сознанием своей вины. Если болеют дети, родители сами себе задают вопрос: "Не я ли, Господи, не я ли виновен в злостраданиях ребенка своего?"
Поэтому иногда с мамочками, несколько заплутавшими на дорогах жизни, всего лучше говорить о будущности ребенка, если дитя еще маленькое. Для мам это сильнейший импульс. Потому что она желает счастья своему чаду. Ради этого живет. И готова перегрызть горло тому, кто посягнет на счастье ее дитяти. А если это она сама подсекает будущность ребенка своими грехами? Кому же горло грызть? Конечно, каяться нужно. И вот иногда священник находит этот путь к сердцу матери очень простыми словами, вспоминая их, между прочим, из советского времени. "А скажите, пожалуйста, ведь вы, наверное, как всякая мама, не желаете вашему ребенку таких крученых дорог жизни, таких сумерек, таких лабиринтов, из которых мы с вами, – батюшка всегда себя отождествляет с кающимся, – никак не можем выбраться, в трех соснах заплутав. Наверное, сами-то вы желаете ребенку дороги прямой, дороги чести, правды и любви? Хотите, чтобы ребенок шел, не спотыкаясь, тропой бескорыстной любви? Сами, наверное, хотели бы, чтобы ваше дитя было рыцарем чести и отваги?" Одним словом, подыскиваешь слова, которые высвечивают будущность дитяти в самой доброй перспективе. "Готовы ли вы устранить те препятствия, которые встают, как чудища рогатые, на жизненной стезе вашего ребенка?" Родители готовы. Но только начинать им нужно с самих себя. Каяться в грехах молодости. Восполнять недостающее. И уж, конечно, быть людьми морально чистыми, не имеющими права на двойное дно и на запасной вариант.
Хорошо мирить родителей, вспоминая, между прочим, лексику наших сказов, наших древнерусских произведений. Ведь тогда были особые эпитеты, которыми осыпала женщина жениха или мужа, князя удалого, вернувшегося с поля брани. Все это имеется в наших былинах, сказаниях, отчасти, житиях.
"Батюшка, но объясните, отчего я ненавижу своего мужа?" – "Ну отчего? Вы, наверное, с ним по-человечески не поговорите никогда". – "Это как?" – "А вот как, – и тут вы создаете ей некую картину образную, которая воздействует на сердце и намечает некую программу. – Есть такие жены, они вроде бы и любят мужа, но все время с ним ругаются. Все время он вызывает у них негатив, все время раздражаются, а сами же спрашивают: "Отчего я такая раздражительная? Вот только завижу его издалека, уже мне плеваться хочется". Да что же это такое? Это просто болезнь. Это просто какое-то демоническое состояние. И так ведет себя та, которая должна быть ангелом-хранителем, утешителем своего супруга. Ну и что, если у него внешность вырублена как бы из цельного куска базальта? Ну и что, если он не Геракл? Кормилец зато. Все домой тащит, что найдет по пути. Стул без одной ноги. Трансформатор с проволокой развинченной. По-своему он выражает попечение о доме. "Батюшка, у нас все забито. На антресолях, в ванной. Я уже восемь лет не принимала ванну, потому что там запчасти машины, которую он обещает собрать к Восьмому Марта. "Это тяжело, я согласен. Так вот вы попробуйте все-таки встретить его как-то по-человечески. Он звонит. Вы открываете ему дверь и говорите: "Здравствуй, свет очей моих". Но без иронии, с любовью. "Друг мой прекрасный, месяц ясный". Он сначала будет это воспринимать тоже неадекватно. "Ты чё, сдурела?" А вы не смущайтесь, продолжайте: "Скорей входи, мой милый друг. И отдохни, пока тебе я напеку оладьев. Давай сниму твой армячок. Садись, садись, душа моя. В глазах твоих читаю лишь усталость. И утомление от общения с миром агрессивным". И если так постоянно, изо дня в день, какие-то добрые слова говорить, так любовь возродится. А мы бываем так скудны, тупы даже, бесчувственны.
Конечно, во многом очень важно прислушаться к совету аввы Дорофея, который говорит о духовной жизни и убеждает не терять ту первую ревность по Бозе, ту первую любовь к Богу, которую вдохнул в нас Господь на заре обращения к Церкви. Многие, – говорит авва Дорофей, – потеряли эту ревность, но не многие возвратили ее. Так вот, конечно же, нужно знать, что непросто возвращается то быстро теряемое вдохновение, та нежность чувств, которая некогда составляла радость бытия новобрачных. И, безусловно, мы назовем исключительными, замечательными, достойными всякой похвалы те пары, где мужья и жены, действительно, стараются сохранить эту высоту, а вместе с тем добрые слова и чувства радостного единения, доверия, готовности служить без утомления своему избраннику или избраннице. Потому что это должно беречь, как нежный цветок, легко увядающий под раскаленными лучами солнца.
Невыносимой болью полно сердце женщины, потерявшей ребенка. В ее душе и глазах – бесконечная мука и немые вопросы: за что? почему? кто виноват? как жить? Часто это даже не вопрос, а олицетворение мировой скорби, застывшей во взгляде. На такой вопрос, на такой взгляд требуется не теоретический ответ, а живое сочувствие, сострадание, отклик вашей души, о чем говорит апостол Павел: радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими (Рим. 12, 15). Человек страждущий нуждается, прежде всего, в живом участии, в соболезновании, но не в отвлеченном, сухом, логическом умствовании. Жизнь вообще часто ставит перед нами такие вопросы, ответов на которые в богословских словарях не находится. Я вижу, что подлинное утешение, нравственное просветление, опору, крепость получает страждущая душа, когда я просто стараюсь проявить к ней внимание и ее боль с ней разделяю.
Протоиерей Алексий Мечев (1859–1923), потерявший любимую супругу, безутешно скорбел. И отец Иоанн Кронштадтский, вдохновивший его на путь пастырства, посоветовал ему заняться разгрузкой чужого горя. Я напомню вам небольшой фрагмент из воспоминаний священника Павла Флоренского: "29 августа 1902 г. умирает жена о. Алексея, и в страшном горе, близком к отчаянию, о. Алексей бросается за помощью к тому, в ком видел дерзновение и истинную молитву – к Иоанну Кронштадтскому. "Ты жалуешься и думаешь, что больше твоего горя нет на свете, так оно тебе тяжело. А ты будь с народом, войди в его горе, чужое горе возьми на себя – и тогда увидишь, что твое горе маленькое и легкое по сравнению с тем горем; тебе и легко станет". Так ответил ему Кронштадтский пастырь. Этот совет есть ключ к пониманию деятельности о. Алексея: о. Алексей весь уходит с этого времени в чужое горе и в чужое страдание. Он растворяет свое горе в общей скорби. Он навсегда отказывается от своей личной жизни. "Пастырь должен разгружать чужую скорбь и горе", – многократно и упорно учил он впоследствии, опираясь на опыт своей жизни. Он теперь никогда не остается один, с утра до вечера отдавая себя приходящим. Свою врожденную нежность к семье и к детям он распространяет на всех, кто бы ни пришел к нему; и правильно говорилось о нем, что он для них не только пастырь и даже не только отец, но и заботливая мать. Он всячески помогает приходящим; но его прямое дело – это молитва, на которую указал ему о. Иоанн. Те, кто приходит к нему, чувствуют себя облегченными и обрадованными, несмотря на глубокое горе".
Вот так должны действовать и все мы, пастыри, – не столько блистая красноречием и знаниями, сколько проявляя внимание и участие к скорбящему. Самое главное – от сердца к сердцу с Божией помощью доставлять печалующейся душе отраду, утешение, просветление. Это может быть даже не слово, которое раскроет утаившийся от матери нравственный смысл страданий ее ребенка, а простое внимание, сочувствие, ваши глаза, ваша интонация, ваша личность, вбирающая в себя эту боль.
Конечно, случается такое только по Благодати Господней. И это – основа основ, ибо никому не нужны отвлеченные теории, рационалистический сухой ответ, но люди прислушиваются к вашему сердцу. Они пойдут именно к тому, кто может посочувствовать и не отвратится от них в их горе, но каким-то образом станет участником этой драмы. И не пойдут к богослову, не пойдут к теоретику, который обладает лишь сухим знанием, но которого сердце мертво и неподвижно. Все это на интуитивном уровне мгновенно постигается.
Но есть, конечно, конкретные ответы на вопрос о том, как вести себя с многострадальной матерью, потерявшей ребенка, и что ей сказать. Пастырь либо другое лицо, которому открывают душу, ни в коем случае не должен становиться в позу общественного обвинителя, не должен прямо и непосредственно указывать матери на ее грехи. Хотя совершенно точно, что случайностей здесь не бывает, и большей частью дети, которые связаны с родителями душой и телом и составляют вместе с ними некое нераздельное целое, конечно, страждут не за свои грехи, но некоторым образом за грехи своих родителей.
Но что сказать, когда размышляешь об ужасах Беслана, где около тысячи детей вместе со взрослыми пострадало, кто-то выжил, кто-то скончался, кто-то стал инвалидом? Понятно, что эта трагедия охватывает весь город и все Отечество наше. Внутренне пытаясь самому себе дать ответ на этот вопрос, я прихожу к следующему. Очевидно, что пока в том же Беслане и по всем городам и весям нашего Отечества свершается гораздо худший террор, пока четвертуются невинные дети и свершается их узаконенное жертвоприношение, пока грех этот не изжит и даже не осмыслен – очевидно, праведный Господь попускает подобное. Ибо из Ветхого Завета нам открываются судьбы народов и городов, ясно свидетельствующие, что дети, по праведному Божиему определению, могут быть изъяты из этой жизни и как мученики водворены у Господа. И делается это ради вразумления и городов, и народов в целом, да и тех, кто пребывает в духовной спячке. Но вы ни в коем случае не тыкайте этим родителей в лоб. Было бы не то что не мудро, а чудовищно приступить к скорбящей матери, говоря: что ты плачешь, ты что, не понимаешь, почему это произошло? Священник должен очень бережно, деликатно и с любовью обратить внимание несчастной матери на ее собственную жизнь, на прожитые годы. И, как правило, если вы действуете с любовью, сочувствуете страданиям, объединяя себя с матерью, она тотчас раскрывает сердце Богу и кается в своих грехах. Потому что, безусловно, первый вопрос, который поднимается в сердцах родителей при несчастии их детей: не я ли, Господи, не я ли прямо или косвенно повинен в этих страданиях?
И порой безо всяких подсказок со стороны священника скорбящая мать немножко постоит в храме, внутренним взором рассматривая прожитую жизнь в ретроспективе, и мало-помалу изымает те занозы, те кровоточащие язвы, которые, может быть, еще никогда не были представлены взору духовного врача, и покается в них перед Богом.
Почему страдают дети? Потому что это самое незащищенное, самое дорогое, святое, что у нас есть. И по большей части наше родительское легкомыслие, наше нежелание восчувствовать духовную связь, сопряженность судеб взрослых и маленьких, наш эгоизм и обращенность лишь на самих себя, ищущих удовлетворения своих страстей, является виною детских страданий. Священники знают доподлинно, что, скажем, такие грехи, как прелюбодеяние, измены с той или с другой стороны, не вскрытые исповедью, до поры до времени как бы Господом Богом терпимые, затем обнаруживают себя, и часто именно в таких ударах. Но их наносит, конечно, не Господь Бог. Господь не желает человеку страданий, Он пришел, дабы взять на Себя наши язвы. Но покров Божией Благодати, отнятый грехами родительскими, отходит, и самое незащищенное, что у нас есть – дети подпадают под действие страстей, злых сил. Это не абстракция – Божий Покров, присутствие Божией Благодати в семье. А лишенная этого Покрова и этой Благодати семья быстро становится похожей на избу, открытую всем ветрам.
Безусловно, судьбы людей настолько таинственны и непостижимы, что наивно искать ответ на каждый конкретно заданный подобный вопрос, ибо жизнь есть бездна многа (Пс.35,7), не все до Страшного суда находят ответы на свои вопросы. Но нужно отметить, что иногда самые чистые, самые добрые, самые удивительные дети, отмеченные, несомненно, Божиим благословением, несут на себе эту печать избранничества, то есть отмечены неисцелимыми болезнями. Вот, например, в одном учебном заведении мне довелось причащать мальчика. Тихий, светлый ребенок, как ангелочек, еще недавно он был алтарником, а потом у него стала очень быстро развиваться саркома. Ему прооперировали опухоль, но она уже дала метастазы в брюшную полость и в легкие. Родители приводили его в школьный храм причащаться, ему очень хотелось в школу. Он переносил тяжелые болезненные испытания, можно сказать, безропотно – такой мужественный, просто как воин. И я причащал его Святых Таин, вместе с ним молился. Мальчик не впал в уныние, не раздавлен своей болезнью, видимо, и Господь поддерживает его Своей силой. И, конечно, встает вопрос: почему, за что?
Мы видим, что это несомненное избрание Божие. Не кара, но какое-то Божественное посещение. Господь, бывает, самое достойное и высокое, чистое, святое исхищает из этого мира. Как у премудрого Соломона написано: берет праведника в юности, дабы злоба не изменила разума его (Книга Премудрости Соломона, 4, 11). Собственно, Вифлеемские младенцы первые вошли в эту череду детей-праведников, таких ангелов, небожителей, сохраненных от злобы мира, от греха, поставленных на какое-то таинственное и неведомое нам служение Самим Господом, в молитвенное предстательство за человеческий род.
Или еще вспоминается мальчик Артемий, мой тезка – удивительный отрок. Несколько лет уже как отошел ко Господу. Тоже пришел к нам в школу с опухолью головного мозга. Родители это знали, мы до поры до времени – нет. Мальчик совершенно не походил на своих сверстников, был сама доброта, сама нежность. У него не было врагов. Стихи писал – такие зрелые, серьезные. К взрослым относился очень учтиво, просто ангел. Мы его все любили. Потом он в Морозовской больнице чуть ли ни пятьдесят дней лежал, как распятый, ездили его причащать. И, наконец, он в бессознательном состоянии отошел к Богу, очевидно, не бичуемый, не казнимый, но увенчанный этой скорбью. Прекрасные мама и папа, венчанные, верные друг другу. Но, может быть, я не знаю деталей их биографии – кто из нас без греха? Все, за церковной оградой пребывая, так или иначе могли быть уловлены лукавым. Но удивительно светлые, чистые родители. В память об этом мальчике у нас при храме детская площадка построена. Совершенно очевидно, что он был небесное явление, не вписывающее в категории нашего мышления. Это тайна, которую мы только ощущаем душой, можем более восчувствовать, чем объяснить. Вот, семья венчанная. Знаете, священники-практики любят на это отвечать конкретными примерами, ибо это сама жизнь, но не выхолощенное теоретизирование.
Еще пример. Венчанная семья, очень благочестивые люди, имеющие жизненный достаток. Есть дочка единственная, умница, чистая девушка, которая ни в чем не огорчает своих родителей. Они вроде уже и немолодые, но мечтают еще о прибавлении потомства, однако Господь никак не дает. Наконец появляется долгожданное чадо. И сразу – шокирующая весть: врачи подозревают, что младенчик родился с синдромом Дауна. Родители посчитали, что это вредительство медиков, решивших заполучить себе новорожденного и с ним невесть какие эксперименты творить. Родители забрали младенца, не дождавшись конца обследований. Но мальчик действительно родился больным даунизмом. Для родителей такой удар! Мама в шоке, папа подавлен. Они, конечно, бегут, прежде всего, в церковь к священнику. Здесь они венчались, здесь они благословлялись, здесь они причащаются. Даже мысли не могло быть о такой трагедии – родился ребенок с жуткой болезнью, обреченный на страдания. Ясно, что он не будет полноценным членом общества. Вот священника, скажем меня, спрашивают: "Батюшка, за что и почему такое?" Менее всего вы можете здесь проводить какие-то теории. Я помню, только и нашелся сказать: "Дорогие друзья, будем молиться, ибо у Господа случайностей не бывает. Есть какой-то тайный, неведомый, непостижимый нам промысел и об этом ребеночке, он пред Господом ангел. И, может быть, просто вам ниспослан такой ангел, который принесет в вашу семью то, чего в ней никогда еще не было. Важно сейчас скрепить сердце, отогнать уныние, отчаяние и заниматься родительскими трудами с мыслью, что это ваше дитя, которое вы не променяете ни на какое другое. А со временем Сам Господь все изъяснит".
И вот прошло пять лет. Я все это время постоянно общался с этими родителями и недавно имел с отцом мальчика долгую беседу. И он сказал: "Отец Артемий, ваши слова – единственное, что нас тогда удержало от отчаяния. Они в точку попали, потому что сейчас мы видим: наш мальчик –действительно совершенно непостижимое явление". (Они, кстати, прибегли к главному лекарству: каждую неделю, а то и чаще причащали младенца Святых Христовых Таин.) "Наш сынок, – продолжал отец, – настоящий ангел, к которому не прикасается ничто пошлое, нечистое, грязное. Я вижу, как его сверстники уже "умудрены", в кавычках, уже они познали запретный плод в определенном смысле. А к нашему сыну даже приблизиться не может ничто нехорошее, нечистое. Это мальчик, устами которого говорит Сам Господь. Он такой любящий, такой светлый. Да, физически он развивается медленнее, но он уже и говорит, и не просто говорит, а размышляет. В общем, – закончил отец, – нам даже в голову сейчас не приходит, что у нас мог быть кто-либо другой, или чтобы мы хотели кого-то другого. Образование – это вторично, главное, чтобы была душа".
Для меня большим утешением была беседа с милым папашей, который благодарит Господа и чувствует в случившемся присутствие небесной тайны, воспринятой уже как Божия милость, пришедшая посреди скорбей.
Вспоминается дореволюционная публикация в "Русских ведомостях" о событиях в Китае, где успешно действовала русская православная миссия. Многие люди были крещены, но происходили и восстания язычников, а потом гонения. Случилось там и восстание "ихэтуаней" против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая (Боксерское восстание, 1898-1901), явившееся рубежом для истории православия в Китае. На крови святых мучеников возросла Православная Церковь в Поднебесной империи. И были там мученики веры Христовой. Много пострадало священников и мирян. И вот я помню из публицистических заметок духовного писателя С.А. Нилуса 13 о том, что нашли мальчика пятилетнего, у которого отрублены руки и ноги. Но он – маленький христианин, пострадавший от варваров-огнепоклонников, укрепляемый Божией Благодатию, умирая, говорил с блаженной улыбкой о том, как сладко страдать за Христа. Посреди как бы нечеловеческой муки он изрек то, что древние мученики говорили, свидетельствуя о силе Воскресшего Христа Спасителя.
Итак, есть Господь, Который, пострадав безвинно на Кресте, пролил Свою Кровь за весь человеческий род. И, по существу, единственное, что дает нам возможность как-то успокоить наше сердце, когда мы слышим о трагедиях, подобных Беслану, так это как раз мысль о том, что Бог, Всесовершеннейший Творец и Судия, все видит и ведает, и по ведомым лишь Ему причинам попускает происшедшее. "Есть Божий суд, он недоступен звону злата" 14. От Господа ничто не сокрыто, но все обнажено пред очами Его. Понимание, что Бог всеведущ, и вливает силы в страдающие родительские души. Как часто священники слышат о трагедиях, свершающихся у нас под боком: единственный сын, отличник, на пятом курсе, мальчик готовился жениться, провожая невесту, уехал за город. В этот же день должен был возвратиться в Москву. Стал жертвой каких-то хулиганов, был избит ни за что, в единочасие скончался. Несчастные родители не столько думают о поимке и возмездии преступникам, сколько горюют о невосполнимой утрате. И с этим невозможно справиться без обращения к Богу.
Еще случай. Родители пришли в горе – их дочка, венчанная, на девятом месяце беременности попала под машину. Я помню, убитая бедою мать первый раз пришла исповедоваться, да, и первое, что я мог только сказать, что это дитя принадлежит Господу. По учению Церкви, ребеночек, зачатый в венчанном браке, причащенный неоднократно Святых Таин Христовых, во чреве матери скончавшийся или убиенный таким образом, – это Христово достояние, и убиенная молодая мать, так сказать, на руках с ребеночком предстоит Христу Спасителю. Я помню глубокую морщину, которая разрезала лоб скорбящей женщины, потерявшей дочь и не родившегося внука. Теперь они уже лет семь наши прихожане, особенно часто мама ходит в храм. Я обратил внимание, что у нее эта морщина разгладилась и стало такое светлое лицо. Она молится, часто причащается, поминает дочку на панихидах, вот у нее и просветлело чело. Бог даровал ей это все пережить и преодолеть. Конечно, без Благодати Господней такое невозможно.
Но, повторяю, находить те или иные рациональные объяснения и делать обобщающие выводы, как бы осмысляя драму или трагедию в каждом отдельном случае, вы можете, если речь идет об абстрактном собеседнике или если вы пишете статью в журнал, чтобы ответить ответ на такой вопрос. Но если перед вами живой человек, то, конечно, главное, это не судорожная попытка где-то в анналах святоотеческой мысли найти необходимый вам тезис, но ваша способность в тишине, в молчании воспринять чужую скорбь, как свою. Речь идет не о сентиментальном утешении, а о сомолитвенности душ. От священника, прежде всего, требуется в данном случае умение возвести к Вселюбящему, Всемилостивому, Всеправедному Судии свой собственный взор, так что и скорбящая душа вместе с вами или через вас, придя с этим неизбывным горем, смиряясь пред Божией Премудростью, в уповании на Него, Господа, найдет какое-то первичное облегчение.
Тема эта, вообще-то, неисчерпаемая и, если хотите, миссионерская. Скажем, когда священник встречается с родителями школьников, когда все еще благополучно и беды-то никакой нет, нужно все равно помочь родителям осознать эту таинственную взаимосвязь и сопричастность судьбе их детей, и ответственность за их будущность, дать им импульс к собственному примирению с Богом, пока ничего не случилось. Ибо сердце подсказывает нам, родителям, что любая наша нравственная немощь, любой тайный грех может повлечь за собою отъятие Ангела Хранителя от ребенка.
Почему страдают дети? Часто это бывает по прямой вине родителей, оставивших их без нравственного и духовного воспитания. Или родители явились прямым посредником вхождения сатанинской энергии в ребенка. Но об этом подробно вам расскажут православные психологи, которые занимаются анализом и статистикой таких явлений и центрами реабилитации.
Мне самому доводилось видеть в учебных заведениях светских детей, буквально одержимых демонической блудной, или сексуальной энергией, притом носящей ужасающие формы. То есть, степень развращенности, скажем, одной третьеклассницы не поддается описанию. Она бросается на сверстников, приносит в класс какие-то несусветные журналы, непотребная лексика и развратные сюжеты у нее на языке крутятся. Ошарашенные родители других учеников не знают, что делать – вплоть до того, что хотят забирать своих детей, ибо эту девочку невозможно удалить из класса, она дочь высокопоставленных родителей, которые школу содержат или покровительствуют ей. А ведь именно родители девочки, не желающие различать добра и зла, являются прямыми виновниками развращения ребенка. У нее на глазах они ходят в неглиже, незнамо что творят, все темы доступны для обсуждения. И вот, по попущению Божию, может быть, для вразумления самих родителей, в ребенка вселяется легион демонов, и в его поведении проявляется нечто такое ужасное, чего нет и в холодных скептиках, циниках, но знающих правила приличия и умеющих вести себя в обществе. Несчастное дитя подвергается одержимости, беснованию. Оно, может быть, без вины виноватое, то есть не прямыми своими грехами навлекшее такую беду, а страждущее по закону причастности к целому. Если более глубоко в богословском плане осмыслять эту проблему, то здесь нужно говорить о первородном грехе, Адамовом падении и святоотеческом изъяснении, почему род наш несет на себе последствия этого греха. Прекрасно об этом рассуждает святитель Феофан, толкуя Послание к Римлянам. Он пишет: "Как лишение дворянства провинившегося дворянина государем императором необходимо подразумевает лишение всех знаков отличия и привилегий и для его детей, так и весь наш род находится в единстве друг с другом, с прародителями, и мы, будучи органичной и неотъемлемой частью всего целого, естественно, несем последствия того, что свершилось единожды. В этом смысле Священное Писание говорит о том, что и все неразумные и бессловесные твари казнимы за грехи человеков, вся природа, как говорит апостол Павел, совокупно стенает, чая освобождения сынов Божиих 15. Как при Потопе все живые существа лишились дыхания вследствие грехов человеческих, так и в семье происходит, несомненно.
Коснемся, например, одного из самых, пожалуй, таинственных и страшных случаев. Представьте себе, мальчик хочет быть девочкой. Или, скажем, девушка имеет определенное отвращение к своей половой принадлежности. Что по этому поводу говорят светские медики? Они говорят: "Господь Бог ошибся; у человека естество женское, а на генетическом уровне это мужчина. Направить его в центр пластической хирургии". Все это за бешеные деньги свершается сейчас запросто и является не чем иным, как кощунственным надругательством над природой. Для нас, священников, это вообще тихий ужас, когда к нам приходит такое оно. Но при этом оно уверовало в Бога уже после того, как все это надругательство свершилось. И что прикажете делать? Только остается в Троице-Сергиеву лавру ехать…
На самом деле, трагедия. Это еще у нас в России транссексуализм пока в диковинку. А опытные духовники говорят иначе. Подобное обуревание, подобный психический сдвиг в естестве чада свершается, однозначно, в силу нераскаянных грехов родительских. И первое лекарство, которое можно было бы предложить боримому (есть и христиане, которые мучаются этим), – это, конечно, начать дело исправления с родителей и крестить ли их, венчать ли, привести к таинству покаяния, к очищению совести, чтобы человек получил внешнюю подпору, укрепление в борьбе с искушающими его силами. Страшны, конечно, подобные случаи; молодой священник окажется просто беспомощен. Никакое головное знание, никакая теория, никакое ораторство тут тебе не помогут, ведь перед нами живая рана, а значит, судьба человеческая, таинственная и трудно постижимая. Пусть беда и не столь трагична ( переломы рук, ног, сотрясение мозга, бровь, рассеченная камнем, – и это, как правило, сразу бьет по родительскому сердцу; подобные несчастья нередко указывают на то, что либо отъят Покров Божий, либо это какой-то тревожный сигнал родителям. Однако нас отталкивает ложный мистицизм иных беесердечных особ: "У тебя это с ребенком за то-то и за то-то". Этакое указание "уголовных статей" ближним со стороны соседа-христианина может быть чистым начетничеством, книжничеством и фарисейством. Сострадание – да, но не дерзкая попытка самому тотчас все расставить по своим местам.
Святитель Тихон Задонский говаривал, что любовь подыщет слова. То есть, ваше живое участие, стихия сострадания, сочувствия – и нам сочувствие дается, как нам дается Благодать 16 – вам тотчас подскажет, с каким, так сказать, золотым ключиком приступить к душе, стоящей перед вами, ибо эта душа обнажена совершенно. Нужно учитывать, что когда человек надломлен горем, то всегда действует пословица: "где тонко, там и рвется", – диавол с его циничностью особенно нагло приступает к человеку, подавленному скорбью. И в этом отношении ваше неосторожное слово может его просто добить. Особенно когда мать спрашивает: "За что страдает мой ребенок"?
Вы знаете, что бездуховное, недушевное, формальное слово, обращенное к человеку, впервые зашедшему в храм, тотчас его разворачивает на сто восемьдесят градусов, и он думает про себя: "Я в эту церковь больше не приду". Хотя никто тебя сознательно обижать вроде и не желал. Поэтому, конечно, совершенно правильно будет заставить человека заглянуть в себя. Но не грубо. А подвести к этому тонким вопросом, как бы ставя себя с ним на одну плоскость: "А вот у нас с вами не было ли такого-то и такого-то…"
Надо разговаривать с людьми, сообразуясь с конкретными жизненными событиями. Знаете, как, например, страдают женщины, приходящие жаловаться на своих неверных мужей?! Да и мужья. Но мне сейчас трудно сказать, кто легкомысленнее, но, скорей всего, мужья, потому что они менее страдают, ведь они не принимают непосредственного участия в рождении ребенка. Немалый процент дам среднего и пожилого возраста приходит в храм с душой уязвленной, обиженной, глубоко раненной вероломством, предательством, циничным обманом. Неожиданно для самого себя страждущая душа свершает первую и полнокровную исповедь! Как бережно должно участвовать в ней пастырю, чтобы трости надломленной не преломить и льна курящегося не угасить (Исаия, 42, 3; Мф., 12, 20) 17. У каждого священника, правда, свой стиль, свое пастырское кредо, но бывает, что суровое и справедливое слово – это молот, который расплющивает мозг и мешает затем человеку прирасти к храму, где единственно-то он и может получить исцеление и врачевание.
А для тренировки попробуйте-ка каждый из вас написать письмо в утешение скорбящим родителям. Скажем, тем, у кого дети погибли в Беслане. Или просто матери скорбящей, потерявшей ребенка. Или конкретной родительской чете, которая потеряла чадо – я скажу, кто они и куда им писать. Оба они еще не воцерковлены. Единственный сын, уже юноша, студент, скончался в результате насильственной смерти. И вот они, старички Базаровы, оставшиеся такими одинокими, пришли к священнику не просто выплакать горе и опереться на что-то, но и утерянное обрести хотя бы в ином качестве. Священнику, да и всякому христианину, есть что предложить, потому что есть общение во Христе, общение живых и усопших, есть единение душ человеческих через Таинства. Есть венчание, посредством которого Божия Благодать снисходит и осеняет детей, уже рожденных. Есть опора на молитву, которую Бог видит, слышит и приемлет. И вот предлагаю вам попробовать такое краткое письмецо написать таким людям – не ропщущим, просто подавленным, убитым горем людям, которые желают и готовы принять от священника слово утешения.
Что нам делать, чем мы можем помочь? Как мы можем поучаствовать в судьбе нашего чада, ушедшего за грань земного бытия? Часто ведь так задают вопрос. Вот, очень конкретное задание: ответить на эти вопросы. И чтобы это были не какие-то высосанные из пальца тезисы, а слова, идущие из души, ибо здесь требуется, прежде всего, движение сердца.
Таким образом, мы с вами сейчас говорим и о сути (содержании), и о формах духовного слова. Недавно студентка-третьекурсница на занятиях спрашивает: а разве проповедь – это не только то, что с амвона читают? Ну, что на это ответить? Мы же говорили о том, что беседа тоже может быть проповедью. Любой разговор по душам может быть проповедью. Ведь что такое проповедь? Это риторическое произведение, причем как устное, так и письменное. В широком смысле – это выражение или распространение каких-либо идей, знаний, истин, учений или верований, которое осуществляет их убежденный сторонник. И такая проповедь может быть прочитана на любую тему. Это не только воскресное слово на прочитанное Евангелие или на тему праздника, но и некие духовные рассуждения на разные события нашей с вами жизни сообразно учению Церкви. Скажем, давайте я подготовлю выступление о рок-музыке с прицелом, может быть, некоего диалога между фанатом и священником. Вот тоже интересная форма устного слова. Нельзя избегать говорить о жизненных сложностях, обо всех насущных проблемах. Но, разумеется, все вопросы надо рассматривать с нравственных позиций и с точки зрения отношения к данному вопросу Церкви. Вы должны овладеть живой стихией слова в современном мире. Вот это – практическая задача.
Вам еще предстоит впереди живая практическая работа со словом. Мы будем учиться, например, как разговаривать с разными категориями слушателей, порой даже в самых экстремальных условиях. Например, вы беседуете с блудницами или с отпетыми циниками. Какие найдете аргументы, могущие на них повлиять? Как вы станете разговаривать с какой-нибудь пошлой молодежью, которая только хохмит и хамит? Или со старушками, у которых советский штамп в голове, плюс еще безотрадность постсоветского времени? Или с интеллигенцией, которая все знает и все отрицает? Мы проведем стилистический анализ и разбор текста. Главная задача – привить вкус к живому слову, воспитать хороший вкус, выработать абсолютный слух к устной речи. Почувствовать, что за вашими словами стоит целый мир.
Старость, как правило, сопряжена со страданием, физической и душевной болью. "Старость не радость", – словами русской пословицы воздыхают на склоне лет уставшие и измученные люди. Их боль, их жизненную драму, а весьма часто и трагедию нужно понимать и чувствовать.
Конечно, где-нибудь в Соединенных Штатах Америки – иная старость, иные лица. Или в Греции. Мне недавно довелось побывать на курорте Эдипсосе, который так и называют "городом стариков". Там есть известные на весь мир термальные источники, и туда счастливые греки преклонного возраста приезжают на воды. Там есть дискотеки для стариков, танцплощадки, набережные, где они прогуливаются, роскошные отели.
Но в России, увы, часто встречаются другие старики и другое отношение к старости. Наши пожилые люди нынче оказались в особо незащищенном положении – без должного внимания, с мизерной, позорной пенсией. И несмотря на все их заслуги – а они у них были, – им никто не скажет и не напишет таких слов, как на памятнике Минину и Пожарскому в Москве: "Благодарная Россия".
Как правило, мы встречаем в лице пожилых людей иное устроение, чем наше. И молодежи нелегко понять тех, кто воевал, защищал и строил, а старикам нелегко принять это новое поколение, чуждое идеалов. В общении с ними, прежде всего, нужно помнить, что они многократно превосходят нас в жизненном опыте, а это такая школа, которую заочно не кончают. Они на своей шкуре знают, что жизнь прожить – не поле перейти, и их на мякине не проведешь. Для них сравнительно молодой человек, чему-то где-то обучившийся, хотя бы и божественным наукам и предметам, в лучшем случае есть сынок или внучок, а в худшем – молокосос, птенец, у которого молоко на губах не обсохло. Посему не стоит перед ними нос задирать, кичиться и бахвалиться знаниями. Все равно они тебя насквозь видят. Тут нужно совсем иное, а именно – участие, деликатность, любовь.
Нужно сказать, что со стариками встречаться и беседовать, если это не расслабленная пороком немощь, гораздо интереснее, чем со многими другими категориями слушателей. Души глубже, скорбями очищенные. Они хранят в памяти много того, что достойно внимания. Поэтому к ним у православного человека, священника, катехизатора действительно возникает невольное уважение и почтение, даже благоговение. При этом нельзя и идеализировать пожилую аудиторию, которая тоже сегодня нуждается в просвещении.
Помните, Достоевский в "Преступлении и наказании" призвал страданию поклониться 18. Так вот само воспоминание о прожитых страшных тридцатых, огненных сороковых, трудных пятидесятых годах меняет ваш тон, подход, обращение, ибо за плечами аудитории тот жизненный опыт, который не купишь, который можно приобрести только самому, прожив жизнь достойно и дожив, дай Бог, до их лет.
Когда мы общаемся с российскими пожилыми людьми, будем памятовать, что у них в душе есть очень много хорошего, такого, чего у нас нет. И это хорошее можно воскресить, и на нем, как на волне дельфин, вместе с вашими слушателями мчаться в нужную вам сторону. Что это хорошее? Ну, хотя бы предпочтение общественных интересов личным. От коллективизма до соборности один шаг, была бы только вера.
Что еще? Конечно, героические годы войны, романтизированные советским киноискусством, а также несколькими тысячами песен, на которых воспитывалось и послевоенное поколение. Кстати, парадоксальная эпоха: страна покрыта сетью лагерей, за счет заключенных осуществляются все главные стройки страны, и при этом процветает романтическое направление соцреализма в киноискусстве, всеобщая атмосфера ликования, заданная с экрана нашими звездами. Любовь Орлова – вот это улыбка, вот это глаза – лучистые, из них как будто пятиконечные звездочки выпрыгивают, обдавая зрителей волной женского обаяния. И если не знаешь этой эпохи досконально, если не читал Солженицына (безобразник, в свои 15 лет ты еще не прочел "Архипелаг ГУЛАГ", не знаешь, как разъезжали "воронки", хватая здесь колхозника, там пролетария, здесь профессора?!), то на материалах Госфильмофонда можно действительно воспитывать романтически настроенное поколение.
А что же еще у них есть, у наших дедов, чего у нас нет? А "наши деды – славные победы" на героическом трудовом поприще, у них есть навык кропотливой созидательной работы, благодаря которой и свет был мил, и кусок хлеба сладок. Наша молодежь сейчас иначе думает: либо пан, либо пропал. Я, с одной стороны, слушатель Богословского университета имени святейшего патриарха Тихона, а с другой стороны, открыл малый бизнес, в Португалии закупил чулки женские, а здесь в Туле и Воронеже толкнул их за тройную цену. Ну, может быть, не всякий будет обвязываться этими чулками, тем паче в порту еще задержат, таможня не пропустит, и вот уже вы прибегаете к духовнику, говоря: "Срочно нужно пятьдесят четыре тысячи долларов, иначе завтра, батюшка, вам придется отпевать меня". Что делать духовнику в таком положении? Но это тема совсем другого собеседования: "Форс-мажорные обстоятельства в духовной жизни".
Но шутки в сторону, давайте скажем об этой замечательной черте –мозолистых руках, благодаря которым приобретение холодильника "Саратов" в 1978 году праздновалось всем двором. И действительно, это было маленьким счастьем, точнее, большим счастьем маленького советского человека. Люди умели ценить малое, радоваться ему и, живя скромно, по средствам, созидали семейный уют, оставаясь при этом добрыми соседями и понимая счастье и радость своих же собратьев по коммунальным радостям.
Нынешние пожилые люди обижены жизнью. Вместо вчерашней уверенности в завтрашнем дне, вместо позавчерашней законной гордости советского человека, те, кому за шестьдесят и больше, зачастую пребывают в незавидном странном, а зачастую печальном состоянии, чувствуя себя обманутыми тем государством и той властью, за которую они боролись и на которую трудились. В молодости такое переносится легче – так, слегка за державу обидно, однако сказал себе: "Вставайте, граф, вас ждут великие дела", – и снова на коне. А людям, уже прожившим три четверти жизни, особенно не на что надеяться, им не приходится ждать перемен к лучшему, особенно тем, кому не слишком повезло с детьми. У стариков совсем иное на сердце, иная туга, иная печаль.
Как правило, у них за плечами многие испытания, такие, какие нам, молодым или не совсем молодым, даже и не снились. Ну, например, испытания военных голодных лет. У некоторых страх остаться голодным настолько вошел в плоть и кровь, что и шестьдесят пять лет спустя они вечером наедаются впрок. Между прочим, в этом частично заключен и ответ на вопрос, почему многие русские пожилые женщины такие полные. В основе лежит страх голода, изведанного некогда в юные годы и запомнившегося раз и навсегда.
Но их все меньше и меньше, тех, кто войну и голод испытал. Мы же чаще имеем дело с советским поколением пожилых людей, которое "верило в себя". Помните слова одной из самых популярных песен: "Как молоды мы были, как верили в себя"? Вот эта вера в себя – мы первые, мы молодые, мы первопроходцы, нам море по колено и знание для нас сила, и мир познаваем – называлась советским оптимизмом, и даже энтузиазмом. Конечно, сейчас от него остались только рожки да ножки, горькие остатки, однако в психологическом складе личности это засело накрепко. Человек, не привыкший возлагать упование на Бога, никогда не говорил: Живый в помощи Вышнего в крове Бога небесного водворится… Яко на Мя упова, и избавлю и, покрыю и, яко позна имя Мое, воззовет ко Мне и услышу его, с ним есмь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение Мое (Пс. 90).
К сожалению, поколение наших дедушек и бабушек в большинстве своем иное. Оно жило под бой барабанов, оно пело, по существу, добрые советские песни, но не было научено надеяться на Господа. Мешали ему искать Господа, если не сказать больше – отбили всякую охоту искать Его и обретать в сердце своем. Поэтому не стоит удивляться, что в духовном отношении многие наши пожилые люди – сущие младенцы. К ним никак не приложишь выражение "маститая старость", то есть духовно умудренная, насыщенная премудростью, но не назовешь это поколение и потерянным, хотя бы потому, что слишком много было в нем хорошего, светлого. Как же, разве плохо жить интересами своей страны, переживать за Отчизну, как за мать, во многом себе отказывать в надежде на светлое будущее? Это благородно. Всего хуже жить для себя, истлевая в гнилом буржуазном индивидуализме. А все-таки они как дети, у которых вынули из уст социальную пустышку. Дети капризные, часто склонные к унынию. "А ради чего жить-то, когда нас обманули, и мы жестоко обманулись сами". Я бы называл это поколение не потерянным, а разочарованным. Про это поколение уже не напишешь новой повести Лескова "Очарованный странник". Это уже разочарованный, разуверившийся в социальных утопиях странник.
Но и жалко это поколение потому, что оно в подавляющем большинстве было насильственно отчуждено от благодати Божией. Оно было предоставлено собственным немощным силам, хотя они и были напряжены до предела. Действительно, часто эти люди прожили героическую жизнь по сравнению с нашей. Они знали нужду, голод, они трудились, засучив рукава, грудью вставали за други своя, но при этом слово "Бог" писали с маленькой буквы. Благодать Божия большинством из них была выдворена куда-то на задворки внутренней жизни. Они оказались не согретыми благодатью. А ведь без благодати душа мучается, тоскует, не может найти себе покоя и счастья. В этом смысле наши старики – сироты, бесприданницы. Они не считают себя потерянным поколением, но Церковь потеряли из виду. И им совсем нелегко бывает обрести ее, когда нажиты страсти. Ум соглашается, а сердце протестует, или наоборот. Какой здесь нужен хирург, какой врач, какое слово, острое, как скальпель, а лучше мягкое, как бальзам, чтобы эти раны исцелить и водворить гармонию, согласие между умом и сердцем, душой и телом.
Но они еще в чем-то и обманутое поколение. Воспитанные на материалистическом мировоззрении, многие из них, не говорю все, были идеалистами. Да, сейчас мы это видим в наш век цинизма, похабщины, купли-продажи, когда продается все, даже самое сокровенное. Старики же были совершенно другими. Для них предпочтение общего частному было чем-то само собой разумеющимся. Никакого протеста не вызывал призыв пожертвовать собою, личным счастьем, отождествлявшимся с мелкобуржуазным уютом, ради вещей для нас совершенно отвлеченных: преобразования природы, какого-то неведомого светлого будущего. Кому оно нужно, это будущее, когда живут-то люди в настоящем?! Бедные старики, ради будущих не рожденных поколений, они кромсали и портили родную природу, потому что партия сказала "надо". Итак, парадокс, мы говорим, что многие из этих стариков были энтузиасты-идеалисты. Многие – коллективисты, то есть люди, привыкшие жить какими-то общими, а не частными категориями. Ну, например, сердечно радоваться тому, что в истекающем году стали в СССР было выплавлено чуть больше, чем в Федеративной Республике Германии, еще не распрощавшейся со своим прошлым. А сколько было радости, когда Хрущев приказал сеять кукурузу прямо на талый снег? Это было новаторство. И мы привыкли к таким словам: "Нам тяжело, потом что мы первые". Ах, в мое время мы уже с кислой физиономией слушали эти задачи: догнать и перегнать развитые страны. Поколение наших родителей изобретало велосипед во второй раз, чтобы "задрав штаны, бежать за комсомолом".
И вот, между тем, с духовной, православной точки зрения, энтузиазм, оптимизм и даже романтизм – это колосс на глиняных ногах. Это совсем не упование. Вдохновение бывает разным: бывает снисходящим с небес, а бывает земным, и даже бесовским. Представим же себе состояние человека разуверившегося, пережившего падение созданного собственным воображением, может, и не идола, но и не христианского идеала. Когда надеяться-то больше не на что, кроме как на силу своих уже узловатых и скорченных артрозом рук. Не потому ли они, крепыши сороковых годов, оказались таким хрупкими в девяностых? Не потому ли умножалось в то нелегкое время число самоубийств среди тихих стариков и старушек, живущих, в общем-то, не впроголодь? И никому не было дела до того, что они так страшно, безысходно, безнадежно сводили счеты с жизнью в своих убогих конурках.
А сколько накопилось у них неизжитых страстей и грехов, зачастую не осознанных! У большинства этих стариков за плечами советские браки с неизбежными абортами – тогда это считалось малостью, ибо нужно было всем жертвовать, даже утробными детьми ради грядущих поколений и будущего счастья, а тогда еще якобы "не созрели экономические условия и нечего плодить нищету". Вот когда будут построены первые хрустально-алюминиевые дворцы, возьмутся за руки строители этого общества, тогда уже не будет ни старых, ни больных… – и проч.: двенадцатый сон Веры Павловны. Часто замечательные, добрые, отзывчивые мамы, уже пожилые, приходя первый раз на исповедь, говорят так ужасно о сделанных абортах: "Да штук так девять было". Это в каком же самосознании находится душа, если она, не отказываясь каяться, называет штуками бессмертными души? Этот мрак, как тяжелый смог, покрывал сознание в те пятидесятые-шестидесятые годы и позднее. И не без основания говорят, что многие душевные скорби и расстройства психики с этим связаны, если грех никогда не был осознан и исповедан, что без чуткого пастырского руководства и невозможно, наверное, сделать.
Да, страсти никого не щадят, даже стариков. Как говорил святитель Иннокентий Херсонский, страсти юнеют, то есть с годами набирают силу, и чем больше проходит времени, тем страсть жесточе господствует над человеком. Это особенно болезненно и неприятно видеть – кипение юношеских страстей в дряхлеющем существе, по поводу чего есть и такая пословица: "Седина в бороду, бес в ребро". Но блудная страсть у стариков все-таки исключение, и по большей части материал для института Сербского – социальной и судебной психиатрии и всяких каких-то выкрутас психики. Хотя, с другой стороны, посмотрев нынешние ночные шоу да постельные сцены, глядишь, 85-летняя старушка выбежит, полоумная, на лестничную клетку в поисках партнера. Но вот что касается страсти гнева, злобы и всяких страхов – то есть маний, на основе самолюбия вселяющихся в душу, от водобоязни до мании преследования – то они мучат стариков, усугубляясь с годами, если человек с ними не борется. А собственно характерная старческая страсть сребролюбия, расцветающая даже посреди нищенской обстановки, когда милая старушка Шапокляк волком смотрит на соседей, будто бы утащивших из ее комнаты в коммуналке, пока она ходила в туалет, луковицу, лежавшую на подоконнике. Все это приходится принимать во внимание, составляя себе психологический портрет слушателей, конечно, в зависимости от аудитории.
Ну, это психологическая характеристика. А теперь скажем о слове, обращенном к старикам.
Мне кажется, что это должно быть непременно радостное слово. Вдохновенное, теплое, светлое. Уж слишком мало положительных эмоций этим не персональным пенсионерам достается ныне. Часто старики куда болезненнее воспринимают сводки новостей, чем молодежь с кольцом в ухе и бутылкой пива в руке. Пережить падение империи и сидеть на ее острых осколках, видя перед собой ненавистную волчью пасть капитализма, – врагу не всякому пожелаешь. Ведь все их чаяния, все завоевания социализма пошли коту под хвост! Но мы-то ладно, будем приспосабливаться, а что же старики? Итак, прежде всего они нуждаются в душевном тепле, в утешении, во внимании, в светлом взоре того, кто силен, крепок и здоров и не растерял еще жизненной энергии на комсомольских стройках. Ведь в большинстве своем старики – это одинокие люди, от которых потихонечку шарахаются даже их близкие родственники. Почему? Потому что у близких родственников – современной молодежи – нет такой культуры; не взрастили, не воспитали в себе того, чтобы понести тяготу близкого кровного сродника и пообщаться с ним не потому, что по каким-то причинам вынужден, а по сердцу, так, чтобы ему было приятно. Вспомните слова Господа нашего: Милости хочу, а не жертвы (Мф. 9, 13). А у нас как? Минимум, какая-то жалкая пайка общения. Батюшки дома посещают пожилых людей и видят, что родственники являются какой-то виртуальной реальностью. Приехала, разгрузила продукты, буркнула два слова – и вот старушка уже снова одна в четырех стенах со своими думами, приемником, телевизором, будь он неладен.
Иногда такие старушки задают священникам философские вопросы, называемые в творчестве Достоевского "проклятыми". Например, имеет ли право на существование врач, который искалечил ей ноги? Она была до больницы ходячей, а там преступная халатность, никому не интересно общаться с этой заслуженной учительницей РСФСР, не имеющей причитающейся ей заслуженной пенсии. И вот штырь вбит неправильно, она потеряла способность сгибать правую ногу. Обречена на инвалидную коляску, будучи активной женщиной, много внесшей в дело образования и воспитания молодежи. И спрашивает батюшку: как Бог терпит? И тут требуются живая вера, подлинное сочувствие, не вымученная теплота и сострадание, которые помогут найти, что сказать. От него требуется также усилие потерпеть такую душу, перескакивающую с предмета на предмет, постоянно волнующую себя самое – это уже дело, хотя еще и не подвиг.
Общаясь с пожилыми людьми, нужно увидеть то доброе, прекрасное и хорошее, которого было много у них, потому что они, как правило, не были эгоистами. Действительно, советская женщина, нынешняя старушка, работая, поднимала своих двух детей, вкладывала в их образование все, что имела, а затем, пока еще в силах была, помогала своей дочери или невестке и сидела с внуками. Водила их в кружки и секции, учила разговорному языку, готовила, стирала – и все это, действительно, забывая о себе. И здесь, мне кажется, она в чем-то уподоблялась Господу нашему Иисусу Христу, принесшему Себя в жертву за грехи мира.
Ах, если б она еще умела тогда черпать силу в молитве! Как правило, жизнь подводила к этому русского человека, но не всегда. И если вам выпала честь свидетельствовать ей о том, что миром правит вечное Добро и Любовь, что материальный порядок, точнее беспорядок – это не беда, потому что над всем духовный, нравственный миропрядок – Бог все видит, все слышит и воздает каждому по делам его и все творит во благо. Если горизонты этой хорошей, но искалеченной жизни действительно были освещены вашей любовью, вашим слово о Боге – думаю, многое нам простится, коль скоро инъекция жизни будет сообщена этой бессмертной душе через вас, через ваше слово, через священника, которого вы привели, заручившись скромным словом: "Ну, если он хочет, пусть придет".
Однако вспомним, что у наших бабушек тоже были бабушки, а те бабушки, как правило, были золотые. Если только не дружили с Кларой Цеткин и не участвовали в первом съезде РСДРП в 1898 году или в деятельности Бунда. Я видывал и таких бабушек, когда приходил в дом престарелых лет пятнадцать назад. Был я тогда совсем молодым священником. Там лежали разные старушки: одни из них поворачивались навстречу священнику и начинали плакать, чувствуя, что благодать приходит вместе со священнослужителем. А другие, всю жизнь трудившиеся на ответственных постах в министерствах и ведомствах, смотрели на батюшку как-то напряженно. Он, понимая драму этих душ, которых один Господь может просветить, здоровался и с ними: "Здравствуйте, вот и батюшка к вам пришел в гости", – выжидающе так, ласково. "А мы не звали никого!" – "Ну, как же не звали? Разве я не к вам в гости?" – "Ничего не надо!" – "Ну, а может быть помолиться о вашем здоровье?" – "Не надо за мое здоровье молиться!" – раз, переворачивается лицом к стенке, хотя до этого не могла двинуться. Так вот, за редким исключением таких бабушек – женщин-революционерок, разрушительниц, а может быть, просто воительниц против неба – все-таки бабушки, воспитанные их бабушками, всегда имели Господа в душе. По крохоткам, по толикам, по капелькам они к концу жизни обрели религиозные чувства, как некий сосуд, наполняясь таким из жизни почерпнутым боговедением. Как правило, это молитва за детей и внуков, это дробное осенение себя крестом. Да и что говорить – чем глубже скорбь, тем ближе Бог; гром грянет – не только мужик, да и баба осенит себя крестом. И вспомнит обрывки молитв, иногда в стихотворной форме. "Ой, батюшка, – говорит какая-нибудь милая бабушка, – я молюся! Никогда не пропущаю молитву, которую еще в детстве слышала!" Спросишь: "Что за молитва? Может быть, "Богородице, Дево, радуйся" или "Отче наш"?" – скажет: "Нет, ни та и ни другая, а вот какая: "Ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой, тебе светло, мне хорошо!" И что это за молитва такая на уровне детской считалочки? А она всю жизнь ею молилась и получала ответ. Воистину, пути к сердцу у Бога непостижимы. Поэтому, конечно, пожилые люди за свою трудовую многоскорбную жизнь близки к Создателю; ближе, чем молодежь, которой все невтерпеж: либо все, либо ничего, либо пан, либо пропал.
Что еще сказать о стариках? Иногда обнаруживаешь, что молитва им сопутствует в течение всей их жизни, хотя они не знают даже "Отче наш". Благодать Божия, дарованная в крещении, через эти скорби, через эти болезни, через эти войны, незримо пребывая с человеком, охраняя его, таки обращает ум к вечности, к Богу. Иногда встречаешь людей, которые не могут взять в руки молитвослов – они себя убедили, что им ничего там непонятно. Но при этом они беседуют с Создателем и весьма наивно и трогательно молятся, чуть ли не за правнуков уже. Вообще, нужен очень внимательный и просвещенный взор, чтобы догадаться об этой сокровенной жизни духовной, которая тлеет и мерцает посреди совершенно не церковных обычаев и образа жизни.
Добавим еще, дорогие друзья, memento more – помни последняя своя, помни о смерти. Уже само обилие телесных болячек, немощей заставляет чувствовать хрупкую фактуру этой жизни, ниточку, которая тянется, а глядишь, и оборвется. По существу, жизнь пожилого человека как некий знаменатель, как некий итог выразится в двух мироощущениях. Одно из них – христианское: чем ночь темней, тем светлее звезды, – душа, разрыхленная скорбями, бедами, болезнями оказывается благодатной для того, чтобы впитать в себя росу богопознания. С такими бабушками священнику интереснее, чем с молодыми людьми. Они ему расскажут столько свидетельств близости Бога, Богородицы – и это не будут прелестные выдуманные повествования. Но если у старого человека тампон в ушах и затычка в сердце, бывает, что он вместо свечи веры, возжженной жизненной скорбью, несет по жизни свои анализы (простите за этот образ, но он всегда приходит на ум). И я встречал таких бабушек, которые даже не против Церкви: "Ну, я бы с удовольствием пришла в храм на исповедь, но мне нужно получить результаты анализов!" Это длится годами. Все новые и новые анализы: РОЭ роится, билирубин искрится. Так вот и замерзают на пути, не добравшись до теплых вод духовного Гольфстрима – покаяния.
Конечно, когда с высоты прожитых лет оглядываешься на прошлое, то на расстоянии видится великое. И Бог стучится в двери сердца пожилого человека, научая его самой судьбою, самими обстоятельствами. Бог свидетельствует о Себе каждым новым днем нашего бытия, расставаниями, встречами, сохранением жизни в критических ситуациях. Помочь старику сделать выводы, увидеть, как Господь стучится в двери его души – великое дело.
Здесь нужно отметить, что редко кто к пожилым годам сохраняет ясность ума, способность умозаключать, редко кто может отрешиться от убийственной инерции сознания. Эта инерция сознания – как прилив. Согласился с вами человек, воспринял, в грехах покаялся, исповедался, причастился – но это еще не успех и не победа. Потому что через две недели вы его посетили – воз и ныне там. Он опять "смерть как ненавидит своих соседей, которых расстреливать надо", – такие страшные слова иногда говорят воинственные старички, даже совсем немощные.
Не будем забывать, что нужно пожилым людям предоставлять высказаться. Кто мы для них – птенцы. Не в философской тоге учителя подходишь к такой душе, а как внучок. Как трогательно пожилые люди встречают батюшку: "Миленький ты мой, сладенький ты наш батюшка!" Да, действительно, внуком себя подчас чувствуешь у той, кому помог в первый раз исповедоваться.
Еще нужно сказать, что от пожилых людей всего благодатнее получать уроки и наставления. Ничто так не драгоценно, как такие уроки, выведенные самой жизнью. Это назидание бывает подспудное, когда ты, интересуясь судьбой человека, расспрашиваешь о детях пожилого человека, уже выросших, о том, как они были воспитаны, как они нынче ведут себя, каковы собственные трудности, делаешь выводы, потому, что вся жизнь в ретроспективе пред тобою раскрывается. О том, как человек начинал трудиться, как завершал, как складывались его взаимоотношения, каких этических, нравственных правил он придерживался в своем общении. И здесь как раз открывается красота души. Сколько было людей начальствующих, которые себе дачу не построили, квартиру не раздвинули, жалованье не прибавили. Какие у них выработаны были правила о том, чтобы не унижать человека никогда, хотя советская эпоха скорее могла научить хамству и чванству, лизоблюдству и лукавству. Просто души русские, христианские коммунистический мундирчик всегда перерастали. И совсем другое – это прямое словесное назидание, наставление. Я вот помню одну балерину 85-летнюю. Она бывала просто как дитя. Она говорила: "Батюшка, вот посмотрите-ка (она была уже лежачая), посмотрите-ка, как я учила, через мои руки прошло столько имен (прямо называет), как я учила их двигаться, сколько грации в этом движении!" (поднимала ногу над кроватью). Я отворачивался тактично, говорил: "Прекрасно, прекрасно". Вот эта балерина как раз беседовала с Богом. У нее даже иконы никакой не было. Но как-то она по-своему беседовала. Меня встречала – все время черным чернильным карандашом наводила брови. Я говорил: "Зачем вам это? Я вас и так люблю и уважаю". – "Батюшка, я так привыкла, я должна выглядеть прилично". Она еще и мне давала наставления как священнику, и я принимал. Например, она говорила о том, что при всей занятости, задерганности вашей жизни надо смотреть в лицо человеку и не пробегать мимо. Я стараюсь, по крайней мере, это относительно тех выполнять лиц, которые в этом, действительно, нуждаются, и по скромности своей всегда находятся за рядом прихожан, не слишком в этом нуждающихся. Большое искусство, умение заключается в том, чтобы увидеть этих людей, не решающихся подойти к вам как к священнику, и угадать ту драму, которая их к вам привела. К сожалению, мы, прихожане, не всегда отличаемся тактичностью и оглядчивостью, и часто прыгаем вокруг наших дорогих батюшек, не понимая, что наше прыганье мешает подойти другим – тем, кто в какой-то судьбоносный для себя час пришел в храм. Даже не пришел – доковылял, и придет ли еще – Бог весть. Тем, кому нужно сказать какое-то очень важное, хотя и очень короткое слово священнику.
Думаю еще, что в разговоре с пожилыми людьми, как с самыми малыми детками, нужно быть предельно осторожными, мудрыми в отношении самого стиля, самой интонации, образа общения. Представьте себе молодого блестящего проповедника, который защитил диссертацию по арамейскому языку, смотрит с радостью, что такая у него аудитория впечатлительная, податливая, похож на председателя колхоза. "Ну, бабульки, сейчас мы с вами будем учиться жизни церковной, прям по катехизису!" Вот подобный дух снисходительно-покровительственного отношения к пожилому человеку хорош только тогда, когда он напоен бережным, нежным, любовным расположением души. Действительно, иногда пожилые как дети. Хотя бы потому, что скованы в движениях, не слишком быстры в своих реакциях, все у них как бы затухает, замирает, они должны быть руководимы. Туда проходите, сюда. Причастились – вот сюда, сюда. Бабулька причастилась и смотрит на вас. "Проходите, бабушка, так, запивочка вас ждет". "Ну, что стоишь?! Иди! Иди"! – так вот очень легко этот сыновний тон, проникнутый теплом любви, подменить на его противоположность. Только тот, кто много со стариками общается, ухаживает за ними, знает их и накапливает эти драгоценные качества – теплоту общения, милость, жалость, сострадание, симпатию, – не ошибется в интонации.
Очевидно, что нужна и какая-то простота слова для пожилого человека, ясность образа. Тут не до высоких теоретических построений, не вполне ясных самому говорящему. Я думаю, что даже старик Гегель, попади он в богадельню, не захотел бы слушать от нас никаких силлогизмов, а захотел бы, чтобы мы просто приложили грелку к его боку. Таковые старики, конечно, как дети, но которые не абстракцией питаются, а словом теплым, прямым, дотрагивающимся до сердца, до души.
И, наверное, самое главное, когда мы общается с пожилыми людьми, – растеплить сердце, что, между прочим, сделать легче, чем в общении с молодежью. Дабы какой-нибудь юноша посмотрел на вас по-детски, доверился бы вам – это надо, наверное, с ним в поход сходить, у костра посидеть, порыбачить сообща, водным спортом вместе позаниматься. А вот пожилые люди – иное. Особенно близка им тема – дети, судьбы детей. Сердце матери всегда болит за "моего Колю", а этому "моему Коле" уже сорок восемь лет. Семья не получилась, пьет, батюшка, горькую. Вот начни расспрашивать про Колю: чем в детстве увлекался, какие кружки посещал – и уже у вас дружба навек с этой мамочкой, на ладан дышащей. И говорю не о каких-то ухватках в американском искусстве общения "а ля Карнеги", а просто само сердце подскажет, и найдешь такие предметы и темы близкие, которые бесконечно дороги пожилому человеку.
Говорят, что предмет кончины – это вообще отправная точка для духовного слова. Но с пожилыми людьми, особенно с прикованными к одру болезни, нужно о кончине правильно говорить: ободряюще, укрепляюще, возвышенно. Особенно, когда вас родственники заклинают: "Только ни в коем случае не проговоритесь, батюшка, что у нее такая-то степень такой-то болезни!" Не должен же говорить священник: "О, мы еще с вами будущим летом грибы собирать станем! У вас будет лукошко из бересты, а у меня целлофановый пакет, мы еще пройдемся с вами по кромке леса. Вы ножичком пользуетесь или выворачиваете грибы из грибницы?" Нет, уже не до грибов, когда кожа пожелтела от разлития желчи. Здесь нужно уметь высокие образы употреблять. Не говорить: "Старуха, помрешь завтра, о чем думаешь?!" Не так, не так, не так. "Матушка, милая, да ведь какая жизнь сейчас? Не знаешь, что день грядущий нам готовит…" – говорит батюшка. "Правда, милок, правда, сердечный. Так и есть, доктор… ой, батюшка", – часто доктором называют священников. "А ведь нам так нужно жить, чтобы сегодня всем: мне, вам, им – быть готовым предстать перед Господом, перед Тем, кто нас видит, слышит, любит. И так предстать, чтобы ничего не оставить на земле, кроме любви к ближним и дальним. Ни на кого не серчаете? Обиды ни на кого нет?" – "Да как же нет? На двоюродную племянницу, которой квартиру-то подписала. Она говорит: "Буду тебе приносить пшенную кашу в первое число каждого месяца, а уж в другое время как знаешь. Пусть тебя возьмет бес на попечение, собес". – "Ах, молодежь наша! Конечно, не дай Бог самим в этом положении оказаться. Но главное-то, матушка, чтобы сердце сияло и день ото дня разгоралась бы лампада молитвы. Знаете, как нам нужна эта горящая лампада молитвы? Ведь душа-то тело хладное покинет, пойдет к Богу, а там свои препоны, свои искушения. Только если душа озарена молитвой: "Господи, Иисусе Христе, помилуй мя! Пресвятая Богородице, спаси и сохрани!", – тогда-то никакая тьма к ней не подойдет. Вы-то сами Богу молитесь?" – "Ну, как же, молюсь, утром, перекрещусь обязательно, и вечером, прям по пальцам поминаю: Маню, Тину, Саню, Петю". – "Это прекрасно, хорошо, но важно, чтобы каждое дыхание ваше было сдобрено молитвой".
Хорошо общаться с пожилыми верующими людьми, потому что от них не исходит негатива и скрытой угрозы. А то ведь у нас бывает, пришел человек, а от него веет, как от трансформаторной будки, на дверях которой изображен череп с костями, молния и написано: "Остановись, убьет!" Вот каково священнику исповедовать людей, когда у них внутри, фигурально выражаясь, находятся эти будки? А подойдет такая пожилая бабушка, сухонькая, светленькая… Да ее, если хочешь от страстей освободиться, покрепче обнять надо и прижать к своей груди. Она прямо так из тебя все и вытянет – раздражительность, печаль, и останется светлый теплый след в твоем сердце. И в ее тоже.
Как бы образно, содержательно интересно ни рассказывали нам о военных подвигах, жизнь все равно расставляет свои акценты, и нужно самому ввязаться в бой, чтобы почувствовать свист пули, ржание боевого коня, услышать визг турка, бегущего навстречу к вам в феске, шароварах и с ятаганом, вращающимся в воздухе. Вот это будет школа. Чтобы судить о предмете, нужно самому все испытать.
Нынче священникам, миссионерам и катехизаторам нередко приходится встречаться с воинским сословием. Вот мы и поговорим о том, как строить с ним свою беседу.
Разбирая особенности какой-либо аудитории, мы стараемся принимать во внимание еще и психологический аспект, представить себе развернутую характеристику той или иной группы лиц, понять ее с тем, чтобы не ошибиться в выборе стиля и интонации нашего слова.
Сегодня непросто говорить о воинском сословии, потому что оно перешло из разряда привилегированного в разряд униженного. Но сначала общая характеристика, а потом частная, отражающая нынешнее положение дел.
Нам, православным христианам, служивый народ – так в старину называли военных – очень симпатичен, родствен, близок. Почему? Да, конечно, по тому охранительному, а значит созидательному служению, которое несут военные. Воинское призвание есть призвание особое, посылаемое свыше. В Священном Писании говорится, что не напрасно носит меч при бедре человек военный, служивый. Вы помните, что Иоанн Предтеча беседовал с военными как с кастой, сословием и давал им назидания. Об этом сказано в Евангелии от Луки: Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем (Лк., 3, 14). Стало быть, мы встречаемся с психологией, выкованной в течение не только столетий – тысячелетий. Военный человек кое в чем напоминает монаха – не связывает себя определенными житейскими делами, разными куплями, то есть не участвует ни в какой торгово-финансовой деятельности, не ведет никакого бизнеса. Речь идет о боевом генерале, строевом офицере, рядовом, всецело подотчетном своему начальству. Да, военный в идеале должен быть свободен от всех мирских и гражданских забот, дабы ему вместе с товарищами своими составлять единый корпус быстрого реагирования – в любых ситуациях исправно нести свою службу, исполняя долг защитника Родины.
Таким образом, у военных мы наблюдаем внешнюю динамику, мобильность, подвижность. Это действительно передвижники. Если кому посчастливилось быть офицерскими детьми лет двадцать тому назад, то они знают, что это такое. Их гимном может стать песня "Наш адрес не дом, и не улица, наш адрес Советский Союз". Потому что родился ты, например, в Рязани, в детский сад ходил в Магнитогорске, в школу поступил на Таймыре, заканчивал ее в Таджикистане, а поступил на первый курс богословского института в Москве. И вот парадокс: для военных в нашей стране свойственна некая добродетель странничества – везде на чемоданах. А уж в наше время, когда Родина отказывается им, бедным, выделять квартиры, они все похожи на Сына Человеческого, Которому негде было главы приклонить.
А с другой стороны, им свойственна определенная внутренняя остойчивость – способность противостоять внешним силам, не крениться туда-сюда при сложных обстоятельствах, а также упорядоченность, основательность, определенная твердость жизненной позиции, порядок. Это особый мир – душа военного человека. В ней очень много симпатичного, очень много такого, что можно только уважать. А вместе с тем есть и известные недостатки. Скажем и об этом два слова.
Итак, военные очень остойчивые люди. В их мышлении существуют такие стропила, которые, кажется, не должны ходить взад и вперед. Крепко крыша страны держится на плечах военного. Первая аксиома его мышления – присяга. Настоящий русский воин, офицер говорит: "Я присягал своему Отечеству на верность только один раз". И мы даже знаем не названных Родиной героев, которые после крушения СССР приняли гонения за то, что отказались, например, переприсягать "незалежней" Украине, прежде принесши присягу Родине в лице Советского Союза, хоть и было это в том же Киеве.
Вторая аксиома мышления военных – приказ. Приказ – это то, над чем не размышляют, то, что надлежит к исполнению, то, чему в жертву приносится личный покой, комфорт и даже счастье. Но это в идеале.
Третья аксиома внутренней жизни военного – честь мундира. Форма благодетельна для всех цеховых организаций, начиная от детского сада (а там форма – слюнявчик), кончая домом ветеранов и пенсионеров. Да, действительно, воинское сословие противопоставляет себя гражданским людям. Раньше за честь мундира стрелялись на дуэлях. Это была живая жизнь. Думаю, то, что было у военных, можно назвать благодатью воинства по аналогии и сравнению с существующим у нас понятием "благодать священства". Это то, что всегда является предметом размышления, благоговейного благодарения и страха за эту "честь мундира", то есть строжайшая дисциплина и стояние на страже сердца, ограждающие жизнь пастыря.
Что говорить, для какого-нибудь политического деятеля сомнительная связь, и то допущенная за границей, вдали от родной печи и жены – досадный промах, компрометирующий факт биографии, не подлежащий огласке. Для священника нечто подобное было бы катастрофой, концом всему, извержением из сана, крушением всех надежд и чаяний. По канонам священник в харчевне, в таверне, в любом заведении, которое может пользоваться сомнительной репутацией, ночевать не должен, дабы не бросить тень на светлые ризы священства. По канонам священник не может в ночное время оставаться под одною крышею с лицом иного пола, если только это не ближайшая его родственница – мать, тетя, сестра, супруга. Но это к слову.
Четвертая категория сознания у военного – это карьерный рост, продвижение по служебной лестнице, где сами годы льют воду на эту мельницу. Если вдруг задерживают очередное звание – товарищу дали подполковника, а вам не дали майора, – это почти приговор. У батюшек в этом отношении дело обстоит полегче и поблагороднее, у нас есть свой табель о рангах, свои награды. Кресты отличаются в своем, так сказать, достоинстве. Но мы вспоминаем отца Иоанна Кронштадтского, который до поры до времени стыдился носить на своей груди дорогой крест из золота с каменьями – то есть стеснялся носить драгоценное изображение Того, Кто на своих плечах нес крест деревянный. Батюшки понимают тщету земных наград и стараются идти путем смирения. И знают, что нет награды выше, чем первый священнический крест и само служение пастыря. У военных все-таки не так. Есть, безусловно, доминанты – "служить бы рад, прислуживаться тошно", есть глубоко вкоренившиеся понятия любви к Отечеству, защиты священных рубежей Отчизны, "чтобы наши жены и дети спокойно спали под ясным мирным небом". Это что такое? Это содержание тостов, которые военные произносят на своих собраниях. И слова эти наполнены, между прочим, непреходящим вечным содержанием.
Есть у военных свои приоритеты, есть свои доминанты, но есть и некоторая инерция, возникающая от того, что все определенным образом расписано. У них все идет своим чередом: от сержанта – к старшине, от старшины – к прапорщику, от прапорщика – к младшему лейтенанту и далее: лейтенант, майор, подполковник…
Скажем и о том, что военные – это люди дисциплины. Люди, вся жизнь которых принадлежит определенному порядку и распорядку. Все делай согласно уставу. "Действуй по инструкции: положено – не положено". У милиционеров мы обнаруживаем лишь "остатки сладки" этой воинской психологии. В этом смысле военные, когда воцерковляются, становятся прекрасными не только пасомыми, но и пастырями. Духовная жизнь у них сама собою упорядочивается в некоторую структуру. Военные умеют ставить цель, добиваться ее, подчиняться дисциплине, в том числе и внутренней. Умеют при этом определять планы, схемы и четко им следовать. Умеют выбирать ориентиры, векторы. Поэтому духовная жизнь военного – это кристально четкая система, в которой все подчинено цели, все взаимосвязано и движется от меньшего к большему, от худшего к лучшему, от тьмы к свету, от идола к Живому Богу.
Исповедь военного – это что-то потрясающее. В порядке отчета. "Дорогой батюшка, в активе – ноль, в пассиве следующие пункты: первое – зол как бес; второе – вечный стресс". Ну, не будем шутить, а возвратимся к нашему материалу. Снисходя с неба на землю, скажем, что военное сословие, будучи достаточно инертным, связанно определенным кругом страстишек. В первую очередь, это, конечно, бахус (работа нервная, спирт всегда под рукой), это мат-перемат, о чем сказано: [Братия, не обманывайтесь]: ни пьяницы, ни злоречивые – Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 10). Вот пойди, убеди военного оставить эту пагубную страсть. Он тебе на это скажет: "Батюшка, простите, я вас уважаю, и ваша профессия мне очень близка. Но есть такие заповеди, которые неисполнимы в нашей жизни. Меня на плацу и слушать никто не будет, если я не заору благим матом". Военный что сапожник. Ему, кажется, легче не дышать, чем не ругаться, но, конечно, не всякому. Очень въедливый для воинского сословия грешок, которым заведует блудный бесенок. Да и не только воинскому сословию присущи выше названные грехи – мир гибнет от них. Но представьте себе, офицеры раньше получали советский паек, для них в каком-нибудь маленьком приграничном городке, а то и в воинской части, огражденной колючей проволокой, убежать от излишества возлияний очень трудно. А там, где возлияния, там и невоздержание. В том числе и о военных сказал апостол Павел: и не упивайтесь вином, в нем же есть блуд: но паче исполняйтеся Духом (Еф.5, 18). То есть в излишестве спиртного сокрыта нечистота, разжжение похоти, которое завершается всякими нечистыми делами. Наверное, самое тяжелое – это образ жизни. То есть нечто вошедшее в норму, в привычку. По слову Федора Михайловича Достоевского: "Ко всему-то подлец человек привыкает!" Вот почему нелегко приходится священникам, а тем паче юным, исполненным энтузиазма катехизаторам, которые попадают в общение с военными, особенно остепененными наградами на груди, звездами на погонах и лампасами на форменных брюках. Ибо, оказывая все знаки почтения, уважения, лояльности к небесной канцелярии, они, как осетины, готовы поднять первый бокал водки "Тамбовский волк" за Господа Бога так, что батюшка даже боится в этом участвовать. Выказывают все знаки лояльности, приязни, готовы выступать спонсорами, кем угодно, но только не изменить собственную жизнь, въехавшую на дрезине воинской психологии в эту узкоколейку быта со всеми его издержками и больными местами, с точки зрения христианского благочестия.
Если вам доведется попасть в воинскую часть, есть вероятность, что вас приведут в плохо отапливаемый актовый зал, в клуб, где сядут перед вами зеленые бритоголовые курсанты или солдатики. А у них одно постоянное желание: поесть и поспать. Они всегда голодные и всегда не выспавшиеся. Нельзя этого не учитывать. И поэтому заранее даже предупреждаешь: "Дорогие курсанты, если мое слово, негромкое, чуждое трескучей фразеологии, направленное в глубины вашей души, подействует убаюкивающее – не противьтесь природе. Я почту это комплиментом, если у меня на глазах ваша бритая синеющая голова наклонится вперед и я услышу тихое посапывание. Не стесняйтесь, каждый слушает, как может". Они тотчас вашим предложением воспользуются, прежде чем вы фразу успеете закончить. А для того, чтобы вас слушали, надо найти болевые точки. Такие, разговор о которых будет сильнее сна, сильнее голода. А чтобы их поднять и обозначить, нужно хорошо представлять себе проблемы современной армии, проблемы именно той категории военных, перед которой вы собираетесь держать речь. (Впрочем, это касается абсолютно любой аудитории, будь то рабочие, интеллигенция, ученые, школьники.) И говорить об этих проблемах надо со знанием дела, хорошо изучив и суть проблем в связи с предстоящим разговором, и психологию тех людей, к которым вы пришли. Излишне будет говорить, что к этому надо не просто готовиться, а приложить душу, принять этих людей с их проблемами в свое сердце.
Далее, когда мы общаемся с молодыми военными, нужно помнить грубость нравов современной молодежи, в том числе и армейской. Ибо там существуют очень непростые неуставные отношения. Например, есть "деды" – это, так сказать, звезды боевой подготовки, и "духи" – новоиспеченные солдаты, только-только попавшие на прохождение службы. "Дед", которому до дембеля осталось два месяца, – это уже какое-то неземное существо. Он живет уже в мире виртуальной реальности. Это счастливый, блаженный человек, который считает себя вправе даже поглумиться над неоперившимися юнцами. Для него нет ничего необыкновенного в том, чтобы заставить "духа" собственной зубной щеткой отхожее место вычистить. А что? Пущай набирается знания о том, как поддерживать санитарное состояние в туалете! Есть и еще более серьезные язвы, которые роднят, может быть, подобные армейские точки с местами заключения. Все это архисложные проблемы, но не здесь говорить о них. Нам следует их пока что просто обозначить, чтобы вы представляли, с чем можете столкнуться, идя на это служение.
Обращаясь к воинскому сословию, неважно какому – от генералитета до бритоголовых "духов", слушающих вас, впрочем, не без апломба, – вы должны воскресить в вашем сознании и усвоить себе совершенно особые интонации, совершенно по-особому строить вашу речь. Начнете теоретизировать – услышите дружный храп. Проявите робость и неуверенность – не исключено, что из середины зала раздастся какой-нибудь здоровый задиристый голос: "Да что этому "Хазанову", пенделя под зад? Что он нам тут еще расскажет?!" – или услышите еще какое-нибудь русское присловье типа: "Не учи ученого – съешь яблоко печеное". А все потому, что вы не убедили их и не заинтересовали, стали грубо воспитывать их, очевидно, неудачно замещая политработника – вот и получили этого словесного пенделя. Очень неприятно. Хотя есть некоторая группа ваших сторонников – те, кто собрали воинскую молодежь в клуб. Но их метод: "Встать! Сесть! Значит, так: сейчас до 13:45 товарищ такой-то прочтет вам лекцию! Слушать в оба уха! Ясно? Потом отбой! Пожалуйста! (Последнее слово уже к вам относится)", – и этот метод вам вовсе не нравится, вы не просили и не хотите себе такой защиты!
Итак, очень большие трудности вас ждут, лучше не записывайтесь в воинскую часть.
Скажу еще, что на трибуне надо выглядеть молодцом. Молодцом, но не распоясавшимся молодчиком. Если можно, вообще за трибуну не вставайте, потому что она убивает все живое. Рассохшаяся трибуна, служившая некогда партийным целям, плохо промытый стакан, нераспечатанная бутылка "Боржоми" (зубами вы ее что ли будете открывать?) и обязательно зеленое сукно. Кусок зеленого сукна, притащенный откуда-нибудь из бухгалтерии. И еще микрофон, который фонит так, что Баба-яга, кажется, говорит приятнее, чем вы. Но им все равно придется воспользоваться, потому что клуб-то большой, и ваш дрожащий от волнения голос просто потонет, не достигнув цели. Вот в таких нелегких условиях оказавшись, вы должны выглядеть молодцом.
Слово ваше должно быть обязательно бодрое, звенящее, энергичное, подобно гарцующему на вороном коне наезднику – такие должны быть найдены интонации, такая тема. Начнете нудить, монотонную речь заладите – лучше бы вам и не приезжать в часть. Элемент назидания сведите до минимума. Между тем вся ваша речь должна учить добру, уму и разуму. Нужно приготовиться к тому, что эта аудитория, такая пассивная и инертная, не сразу откликнется на ваше прекраснодушие. Но вы будете минут десять говорить, как будто среди ледяных торосов в Арктике. У вас будет очень неуютное чувство: а слушают ли вас вообще? Как вас воспринимают, не полетит ли сейчас в вашу сторону какой-нибудь гнилой помидор? Но если вы преодолеете этот испуг и робость, а главное, найдете определенное созвучие, войдете в резонанс со слушателями, то дело пойдет как по маслу. Здесь конечно, чрезвычайно важен выбор темы, чтобы разговор касался интересующих их вопросов. Как с точки зрения искушений, так и дорого и святого, касающегося прямо сердечных чувств. Например, при общении с любой категорией молодежи, в том числе и военной, не проиграете, заведя речь о высокой и прекрасной дружбе, переросшей в любовь, в какой-то красивый роман – это фон, на котором вы можете напечатлеть любые нужные вам истины. Они сразу начнут вас слушать.
Мне кажется, очень плодотворная тема: сравнить воинский подвиг с подвигом христианина. Использовать, например, в качестве метафор слова из воинского вооружения и облачения – как это делает апостол Павел в пятой главе Послания к Ефесянам, говоря, что есть броня веры и любви, шлем надежды спасения (Фес. 5,8), меч Слова Божия и молитвы. А обращение к преподобному Никодиму Святогорцу и его книге "Невидимая брань" еще добавит и дополнит этот словесный портрет воина-христианина. Есть там место для шпор ревности и бодрости, для налокотников и наколенников. Уместно говорить о поясе бронежилета – воздержании. Главное только, описывая добродетели, сделать их максимально близкими для воинского сословия. Как это делал Иоанн Предтеча (мы уже приводили сегодня эту цитату из Евангелия от Луки), когда обратил к военным очень мягкое слово: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем (Лк.3,14). Вот к чему он свел сферу нравственности, духовной жизни для грубых служивых людей. Хотите заработать, в хорошем смысле, признание и любовь ваших слушателей в форме – расскажите им не о сражении, не о боевом подвиге Александра Матросова или Алексея Маресьева, а о том, как военный остался верен своей жене в час искушения. Ну, это требует, конечно, и опыта, и изобретательности, и знания жизни. Вот тут как раз и возникает вопрос: а каким же образом элементы катехизации вводить в свое слово? Может быть, рассказывать о конкретных обстоятельствах, людях, случаях? Да, конечно. Жизнь – это лучший учебник. Думаю, те из нас, кто читал книгу "Живый в помощи" Виктора Николаева, прошедшего ад Афганистана и вынесшего глубокую живую веру, найдет там прекрасный материал для бесед о войне. Не будем игнорировать и книгу "Отец Арсений", четвертая и пятая части которой говорят о войне. Есть прекрасные книги "Спаси и сохрани. Свидетельства очевидцев о милости и помощи Божией России в Великую Отечественную войну" и "Чудеса на дорогах войны". Да по существу, где смерть ходит по пятам, там и Господь и Его благодать.
Что же – возникает новый вопрос – с ними лучше беседовать или житийные элементы пересказывать? Общего рецепта, конечно, дать нельзя, потому что всему есть место. Главное – добиться, чтобы вас слушали и чтобы сердца молодых людей в воинском кителе, очень уязвимые, запрятавшиеся, как зайчик в расселину скалы, открылись навстречу вере. Что там у них на душе? Где их сокровенные думы? Почему они прячутся от всех? Ведь военная жизнь даже в учении очень грубая, а иногда циничная. Я думаю, что речь идет даже не столько о риторике, сколько в целом о вашем восприятии человека и вашем способе общения с людьми. О том, чтобы ваши слушатели почувствовали в вас не дежурного лектора из общества "Знание", засланного казачка-катехизатора, но серьезного человека, знающего жизнь и высокого в нравственном отношении, поскольку мы имеем моральное право делиться только тем, что почитаем правилами жизни для самих себя.
Священникам, проповедникам, катехизаторам нередко доводится беседовать с людьми неверующими и нецерковными, хотя это две совершенно разные категории; с людьми, почитающими себя убежденными атеистами, а также со скептиками, агностиками и прочими духовными гидроцифалами, то есть людьми, придающими слишком большой удельный вес своим мыслям, живущими больше поврежденным своим рассудком, нежели душою. А если и сердцем, то заполоненным страстями.
Кто бы они ни были, вы в данном случае волей-неволей вступаете в диалог с человеком иного духа. Какого иного? Не Святого. А что, все православные верующие – Святого Духа? В некотором смысле это, несомненно, так. Мы все одним миром мазаны. Правое представление о Боге, о мире и человеке, а главное, богооткровенные истины веры, принятые умом, делают человека открытым для принятия благодати Божией. Она уже внедрена в нас в Таинстве Крещения. При условии правомыслия и соответствующей этому правомыслию деятельности, Божия благодать, как ручеек, журчит, мало-помалу умножая себя самое, превращаясь в поток, а затем и в безбрежное море даров Божиих.
И хотя бы мы были христиане никудышные, неключимые, однако общность духа, то единомыслие, к которому призывал и поныне призывает нас апостол Павел, говоря: дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны (Флп., 2,2) – такое единомыслие создает совершенно определенную атмосферу. Оно формирует даже время и пространство. Мне говорили, что теперь по данным современной науки весь световой день проходит за восемь часов. Точнее, двенадцать часов умещаются каким-то образом в восемь. Происходит ускорение, сжатие времени. Может быть, и так, трудно сказать. Однако когда мы молимся, когда мы беседуем о едином на потребу, тогда время замедляет свой бег. Во всяком случае, оно обтекает наше сердце со стороны. А сердце, внемля Богу, дышит Вечностью, и это совершенно иное самоощущение, нежели у того, кто скользит вместе со временем, слоняется по временным задворкам, но не хочет заглянуть на небо, откуда взирает на него Господь.
Итак, речь у нас сегодня идет о людях иного духа. В советскую эпоху их называли инакомыслящими, правда, в другом немножко смысле. В те времена инакомыслие составляло предмет особого внимания КГБ.
Очень интересно, что в курсах истории и философии советского периода все более или менее зараженные безбожием философы назывались свободомыслящими. А сама тенденция идти супротив Священного Писания и Предания называлась свободомыслием. Так, например, целые курсы прочитывались несчастным филологам, философам: "История свободомыслия в России". Понимай, история всякого негатива, отступления от идейных основ христианства. Да, свободомыслие, метко подмечено. Ибо вера, прежде всего, проявляется в подчинении ума свету Откровения, или Богооткровенным истинам Священного Писания. Вера зарождается как раз в свободном подчинении рассудка сверхъестественным, иррациональным истинам Священного Писания. Свободомыслие же есть блуждание мыслей, не встречающее никакого препятствия на своем пути.
Мы говорим это не для красного словца, но для того, чтобы охарактеризовать умственное состояние, или состояние мысли, человека, смотрящего на солнце и говорящего, что солнца нет. Мысль людей чуждого духа, как отмечают опытные борцы с сектантами, скачет, словно вошь. А если хотите, подобно мустангу. Сталкиваясь с людьми нецерковного духа, мы должны быть готовы к тому, что они по качеству своего мышления, особенно, когда завязывается спор, дискуссия, диспут, напоминают необъезженных лошаков, не к обиде их будет сказано. Это не ругательство – просто сравнение.
Весьма поднаторевший в диспутах с сектантами отец Олег Стеняев, уже знаменитый руководитель центра духовной реабилитации, а также диакон Андрей Кураев говорят, что сектант извивается, словно уж на сковородке, когда, вступая в словесный бой с православным человеком, оказывается перед необходимостью обсудить то или иное духовное положение, тот или иной тезис.
По отношению к людям неверующим и нецерковным должно, наверное, в первую очередь вспомнить слова Спасителя, когда Он, обращаясь к Петру, сказал: Симоне, Симоне, се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу (Лк.22,31).Просеивают сквозь сито зерна – и они пребывают в таком хаотическом движении, проваливаются сквозь это сито, находясь во всеобщем сотрясении. Таковы умы сынов века сего, – размышляет святой Макарий Великий в одном из своих поучений, говоря о непрерывном трясении ума, отсутствие спокойствия и покоя в области мысли.
Я не беру, конечно, те случаи, когда у кого-то мысль вся заквашена никотином. Так, например, Эмануил Кант всю свою критику чистого разума написал, не оставляя трубки табака. Мысль курильщика имеет совершенно определенные качества. Она истончается до состояния паутины. Вяло, бездвижно куда-то устремлена, будучи оторвана от источника бытия своего сердца. Эта мысль, до крайности абстрагированная, становится жертвой рассудочности. На человека с нормальной психикой она наводит уныние. Из этого состояния писаны многие системы философии. Как ни странно, и некоторым известным православным проповедникам, популяризаторам в этом смысле не повезло, они не сумели побороть, а, может быть, не считали нужным бороться с вонючей табачной страстью. Для информации нужно сообщить, что все книги протоиерея Александра Меня писаны под непрестанно дымящуюся папиросу. Этим недугом страдал – я не осуждаю, просто констатирую,– и один из знаменитых профессоров богословия Западного православного мира протоиерей Александр Шмеман. Впрочем, не будем сводить столь заметную личность к этой немощи. Но все-таки не будем и возводить труды этого протоиерея в последние откровения литургического или исторического плана. Нахватавшись знаний из этих книг, написанных в значительной мере по западным образцам немецкой протестантской литературы, современный студент-богослов может позволить себе весьма легко отозваться о Типиконе и смело строит какие-то теории головного порядка, не будучи воцерковлен ни умом, ни сердцем.
А вывод-то из сказанного какой? Знай, что если ты вступаешь в дебаты с человеком нецерковным, немолитвенного духа, то ты обязательно должен вооружиться рогатиной, как некогда русский царь Алексей Михайлович Тишайший. А он любил медвежью охоту. Один выходил на медведя – наш великий царь-постник. Не всегда охота была удачной. Вы помните тот случай, когда медведь завалил светлейшего Государя и уже хотел было задрать его. Из беды Царя выручил внезапно явившийся воочию преподобный Савва Звенигородский. Он отогнал лютого зверя ударом в нос небесным перстом.
Вот почему Алексей Михайлович так чтил этого подвижника. И сделал из монастыря просто загляденье. Я имею в виду Савво-Сторожевский Звенигородский монастырь, ныне возрожденный.
Так вот и мы должны вооружиться рогатиной. Зачем она нам? Для того чтобы пригвоздить к земле, ухватить мысль, тезис сектатнта извивающегося в полемике с вами, как уж на сковородке. Как бы он ни вертел хвостом и ни извивался кольцами своего чешуйчатого тела, не давайте ему перепрыгнуть на другую проблему, на другой предмет до тех пор, пока вот этот самый пункт вашего двустороннего собеседования не будет вами исследован во всем объеме. Тут вы встретите яростное сопротивление вашему методу! Однако надлежит встать на место и не сходить с него. Застолбить участок и разрабатывать его. Как неистово бьется пригвожденная рогатиной гадюка, так и ваш собеседник. К примру, вы обсуждаете с ним проблему крещения младенцев. И цитаты находите из Священного Писания, и свидетельства Предания о том, что Церковь всегда признавала необходимость крестить младенцев. Он тотчас побежит в другую сторону. Начнет обсуждать проблемы "женского" священства, защищая его. Нет, батенька, стоп! Уж давайте обсудим до победного конца проблему крещения младенцев…
Продолжая наши размышления, скажем, что с людьми нецерковными и вовсе неверующими говорить очень тяжело с точки зрения эмоциональной, чувствительной. Почему так? А потому что у них сердце отнюдь не райская лужайка, не пастораль. Это омут, где ангел ногу сломит, если только ангелам угрожают переломы. Там водятся многие морские гады, как говорил царь Давид 19. И нужно знать, что, когда вы вступаете в это собеседование, вы вызываете огонь на себя. Как Александр Матросов, вы ложитесь грудью на вражескую амбразуру. А дзот – это уста человека неверующего. Огнемет – это мысль его. Да и мысль эта не его, а древнего змия, во время оно низвергнутого копьем Архангела Михаила с небес на землю. Однако этот змий, пребывая в великой ярости, зная, что все меньше и меньше времени ему остается для обольщения народов, весьма изощрился в деле совращения спорщиков. Во всяком случае, в деле обстреливания словесной овечки Христовой всякими вопросами на засыпку. И подчас через уста ближнего вашего вы получаете такие вопросы, рассмотрев которые свежим умом, тотчас чувствуете флюиды демонической энергии. Знайте, с кем спорите. Со змием, который назывался некогда в своем изначальном светлом состоянии херувимом, ходящим среди огнистых камней на горе Божией.
Вот с этим-то падшим херувимом вы вступаете в словопрения. Будьте готовы к тому, что, услышав хулы на Небо, на святых его, на жилища святых, на Промысл Господень, на Мать-Церковь, всегда сияющую в ее Небесной красоте, все у вас перевернется в душе, в сознании, в чувствах, поднимется возмущение, праведный гнев, негодование. Вам сразу вспомнится святитель Николай, заушивший Ария мастерским ударом. Вы почувствуете себя почти такими же, как он, борцами за истину, и в сердце закрадется вопрос: "А не осветить ли мне десницу кровью еретика?", – как призывал великий святой отец в одной из своих гомилийНо нет, это не ваша мера. Тем паче, что в ответ еретик изловчится и может вам запросто очи выколоть. Но это будет страдание не за Евангелие, а за собственную глупость.
Негодование – вещь хорошая, и стремление посрамить блудливые уста – тоже неплохо. Но для этого еще нужны знания, умение, компетенция. Для этого нужно иметь кроткое Христово сердце, чтобы ударить именно по нечистой силе, а не по самому человеку. Конечная ваша цель – не размозжить ему голову, но приобрести его Христу. Что пользы в вашей словесной драке, если он, отплевываясь, уползет куда-то в чащу леса, зализывая раны и угрожая: "Мы еще придем, мы еще встретимся с вами, товарищ православный, на узенькой дорожке". Поэтому, конечно же, очень важно заблаговременно настроить свою сердечную лиру на спокойствие, на мир душевный, на взвешенность и аргументированность суждений, на то, чтобы, скрепя сердце, в ответ на возмутительные речи наших оппонентов, как говорит апостол Павел, с кротостью уметь дать отчет о своем уповании 20. И как он прекрасно добавляет: не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю (2 Тим. 2, 25-26); и еще: вы духовне исправляйте такого духом кротости" (Гал. 6,1) Не отождествляя его бессмертную душу с изуродованным мировоззрением, с его ошибками, ущербностью и богохульством.
Кажется, уж даже священники, которые имеют пастырскую благодать, но и они не остаются без ран в беседе с какими-нибудь сектантками, чуть они затянут свою песню о том, что у нас один Бог, что мы все во Христа веруем. Так-то оно так, но как мы веруем? Один Бог, да, но и вера должна быть одна, и крещение одно, по свидетельству апостола Павла 21. У нас Господь как бы один, да веры разные. Наша вера апостольская. А ваша какая?
Безусловно, нужно с самого начала определить, на что настроен ваш оппонент. Если им владеет дух противоречия – не тратьте на него слишком много времени. Вспомните слова из Книги Деяний: Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся (то есть, прекращай с ним словесное общение.), зная что таковый развратился и грешит, будучи самоосужден (Титу 3, 10-11). Это сказал апостол Павел. Нам да его не слушаться?
Итак, очень важно до начала диалога понять, на что настроен человек. Если он, как боевой петушок, уже подпрыгивает на своих лапках, распушив хвост – а что греха таить, среди православных собеседников часто господствуют такие настроения – в таком случае чего ж зря из пустого в порожнее переливать? Не Сам ли Господь запрещает метать бисер догматов пред теми, кто и на Небо посмотреть не хочет? 22 Если же человек имеет доброе устроение – это нужно вовремя понять, – и тогда можно с человеком общаться, и слушать его, и отвечать на вопросы, коли Божия Благодать его ведет. Но не всегда, конечно, возникает подобное ощущение.
Обращаясь к случаю беседы с человеком неверующим, мы, конечно, не должны слишком доверять внешним свидетельствам об убежденном атеизме. Это может быть ничего не значащая фраза, иногда произносимая не без апломба. Безапелляционная фраза. Думаю, что если в человеке нет веры или она только-только зарождается, не мудро было бы в лоб вопрошать: "Ты верующий?" Речь идет, скажем, о мужьях, приведенных их милыми спутницами жизни в храм Божий или в околоцерковную среду. Вера есть нежный цветок. Может быть, она и зародится-то у него только после общения с вами, если вы деликатно, осторожно и с сердечной симпатией пообщаетесь с этим человеком. Можно спросить его помягче: "Скажите, а вы по мировоззрению кто?" А он и сам не знает. Нет, думаю, что в случае, когда имеет место роспись в собственном неверии, нужно действовать иначе. Преподобный Серафим Саровский говорил, что с душевными людьми нужно говорить по-душевному. Нужно найти имеющиеся в сердце каждого какие-то светлые, приятные воспоминания и действовать в этом направлении, как умелый лоцман, ведя за собой вашего собеседника.
Я уже рассказывал о неверующей бабушке своей супруги, которая все только повторяла: "Сожгут меня, и больше ничего". Не может быть, чтобы в сердце пожилой русской женщины не было света Божьего. Конечно, он есть. Тем паче, что она еще при царе-батюшке родилась. И очень скоро я нащупал этот кусочек здоровой ткани. "Бабушка, – говорю ей, – и что же, вы в детстве никогда не чувствовали справедливые слова "блажен, кто верует, тепло ему на свете?" – "Ну почему? Чувствовала. У нас, когда мы девочками в гимназии учились, был священник. Ах, такой был батюшка! Вылитый Иисус Христос". – "Вот видите, какой был батюшка – как Иисус Христос. Вы любили его?" – "Ну, конечно. А потом был другой. Мы над ним издевались". – "Как? Бабушка, как же можно над батюшками издеваться?" – "А вот я ему сама задавала вопросы: "Отец Василий, в Библии сказано, что Бог сотворил твердь и травку вырастил в третий день. А солнце в четвертый. Как это может быть?" Ну, батюшка был тугодум и только от нее открещивался: "Лабадина, не богохульствуйте". Это он такой простой вопрос называл богохульством. А девочкам того и нужно было. Они чуть ли ни записочки вкладывали в длинные рукава его рясы. И он транспортировал эти записочки по классу.
Нет, уметь найти какие-то светлые плацдармы, островки в душе человека очень легко. Особенно русского. Потому что русская душа верующая. Она все оценивает и осмысляет религиозно. Она готова жертвенно служить идее, она идейна. Не так было до наступления третьего тысячелетия, с его эрой Водолея. И поэтому в жизни этих людей много добра, много истинной красоты, бескорыстия, служения ближним, аскетизма. Если хотите, много священных воспоминаний.
Что касается напомаженных и наманикюренных американских проповедников, я их мало знаю и не берусь о них рассуждать обстоятельно. Можно лишь подметить в них очень большую зашоренность мышления. Как правило, сектанты Библию не наизусть знают. Это только первое впечатление. Они ведь в основном карандашом подчеркивают в Священном Писании ложно ими истолкованные положения, выбранные, и даже вырванные из цельного текста. А кроме этих положений их адепты ничего не знают. Хотя не буду спорить, что часто инакомыслящие усердней читают Писание, чем мы, православные. Сидим на куче золота и от голода погибаем. Но в тех редких случаях, когда мне приходилось беседовать с сектантами, я мог убедиться в том, что православные владеют Священным Писанием именно так, как сказано про апостолов: Бог отверз им ум к уразумению Писаний (Лк.24, 45). Мы не помним до точности, до буквы, но помним и разумеем суть. Хотя кто-то из преподавателей Свято-Тихоновского богословского гуманитарного университета знает и помнит все (например, сколько раз упоминается Галилейское озеро в первых пятнадцати главах Евангелия от Луки). Это называется текстологическим знанием Священного Писания. Я преклоняюсь перед педагогами, которые в свои неполных двадцать семь лет выучили Новый Завет наизусть. Вопрос только, требовать ли этого от студентов?..
Когда нам задают вопросы люди, только-только вступившие на тропу Православия, нужно придерживаться нескольких принципов, заранее заученных положений.
1. Не отвечать от кружения головы своей. Если ты точно вопроса не понял или точного ответа не знаешь, лучше воздержаться с ответом. Во всяком случае, сказать что-то в условном, сослагательном наклонении. Но не изрекай, как дельфийская пифия, дабы не дезориентировать искренне вопрошающего. А что значит – точно знать? Это значит знать Священное Писание и Предание Церкви. Ибо истина Писания разумеется Священным Преданием, в свете Предания мы должны толковать Писание. Если знаешь святоотеческое суждение – прекрасно. Облеки его в собственную форму. Но пусть содержание останется неизменно.
2. Очень важно чувствовать меру восприятия, способность восприятия слушателя. Поначалу мы все очень увлекаемся, перегибаем палку и перехлестываем информацию через край. Ум вопросившего уже насыщен. Он получил ясный ответ. Раковина заполнена. А мы из шланга льем, льем, льем – так, что уже затопляет нижние квартиры. А остановиться никак не можем и не хотим. Нет, надо так: культурно, корректно, духовно ответил – и смотри, молись, дабы человек действительно напитался словом, но не был бы пресыщен им.
3. Апостол Павел выделяет в собеседниках такое состояние, которое он называет совопросничеством века сего 23. У молодежи это, между прочим, не так редко встречается. То есть, стремление задавать вопросы, нагромождая их один на другой, как торос на торос, льдина на льдину во время ледохода. Ты не успел ответить, тебе уже задается два иных. Иногда создается впечатление, что человека:
а) не интересует ответ ни на один из своих вопросов. Он интересуется только самими вопросами;
б) ему не интересны ни вопросы, ни ответы, а ему вы только интересны, но не как духовная личность, а как просто человек. И все это для отвода глаз бывает;
в) совопросничество иногда подразумевает пустое, праздное любопытство, желание чесать слух, по слову апостола Павла 24;
г) совопросничество изобличает ожесточенное состояние души, не готовое удовлетвориться ни одним самым искренним и добрым ответом. Конечно, подобное порочное расположение души обличает, точнее, говорит о ненужности диалога и о необходимости свернуть его, дабы меньше осуждение было и вам, и вашему престранному собеседнику.
А все-таки закончить хочется тем, с чего мы начали. Страшно тяжелое дело – разговор с человеком, закрытым для принятия Благодати, не впитывающим, как губка, не ваше слово, а Божие слово. Такого человека само Писание называет сыном противления 25. Поначалу это не кажется тяжелым. Но по мере углубления в духовное жизни вы это признаете. Это гири пудовые. И иной раз, столкнувшись с одним из таких душевных устроений, ты даже уходишь от вопроса, переводя разговор в какое-нибудь другое русло.
Ну, а мы с вами будем спасаться сознанием нашей немощи.
Мы уже беседовали о стариках и пожилых людях, а теперь поговорим об общении с тяжелобольными людьми, пораженными смертельными недугами, с теми, кто волей-неволей смотрит в лицо смерти.
Когда-то мне довелось участвовать в информационно-аналитическом ток-шоу "Пять вечеров", которое вел Андрей Малахов. Обсуждалась тема "Диагноз – рак", и речь шла, понятно, о больных онкологией. Приглашены были ведущие врачи и те, кто с помощью Божией победил страшную болезнь, а также политики и простые граждане, которых так или иначе волновала эта тема. Все они представили свой опыт борьбы с раком. И в заключение выступил некий гражданин среднего пожилого возраста из Адлера, который случайно головой разбил мраморный подоконник, после чего у него открылся дар врачевания всех болезней. Нужно было видеть, как присутствовавшие медики на него отреагировали, в том числе и Елена Малышева, известная ведущая передачи "Здоровье". Меня очень порадовало, что и медики, и другие люди, которые так или иначе влияют на общественное мнение, однозначно отрицательно относятся к колдовству и всякой нечисти и большое значение придают упованию на Бога. Даже у невоцерковленных людей есть ощущение, что жизнь в Его руках и что жизненную энергию и силы в борьбе с болезнью – своей или своего ребенка нужно черпать от Бога через Церковь. Вот такое было для меня откровение. Ибо еще пять и десять лет тому назад на подобных передачах можно было встретить кого угодно – шарлатанов и шаманов, колдунов и экстрасенсов, а сейчас превалирует общее здоровое, нравственное суждение. Ну, может быть, потому, что и тема очень серьезная, тут не до шуток.
И теперь, вспомнив это, я хотел бы поделиться с вами мыслями о словесном общении с тяжелобольными людьми.
Мы с вами часто повторяем, что духовное слово, обращенное к сердцу человека, должно само исходить от искреннего простого сердца. И уж если мы говорим о том, что маленькие дети прекрасно чувствуют меру искренности в общении с ними, и всего огорчительнее видеть фальшь в обращении с этими чистыми существами, то, наверное, еще более ответственно, еще более серьезно нужно обращаться к человеку страждущему. Мы помним, что даже три друга многострадального Иова, обладавшие духовным ведением и просвещением, оказались непроницательными и неготовыми понять Божий Промысел, когда считали, что Иов наказан Богом за грехи, и убеждали неповинного ни в чем праведника покаяться. Праведник отвечал, что он страдает не за грехи, но что эти испытания посланы ему от Господа по непостижимой для человека Божественной воле. Друзья, однако, не верили и продолжали считать, что Господь поступает с Иовом по закону человеческого возмездия, наказывая его за совершенные грехи. И тогда Сам Господь засвидетельствовал, что если бы не молитвы Иова праведного, то друзьям пришлось бы худо.
Так вот, когда мы приближаемся к одру болящего человека, мы должны прислушиваться и к нему, и к себе и не спешить с суждениями и поспешными словами. И не считать себя святее папы римского. Потому что опыт больного неизмеримо больше и глубже, чем наш. Он, человек страждущий, гораздо ближе к Богу, чем мы. Есть прекрасное русское изречение: "Чем глубже скорбь, тем ближе Бог". Святые Отцы говорят, что пока мы живы и здоровы, молоды, веселы и богаты, то мы по отношению к Господу являемся как бы побочными детьми; а вот когда человек терпит тесные обстоятельства, когда он Промыслом Божьим вводится в состояние скорби, болезни, то он становится родным Богу. И Бог являет ему Свое лицо. В подтверждение этому служат слова: кого люблю, того и наказую. Собственно, апостол Павел говорит в Послании к Евреям о том, что человек, не терпящий скорби, – как бы незаконное дитя, но становится Богу родным, когда на него как из рога изобилия сыплются беды и несчастья 26.
Итак, приступаем к больному непременно с обостренным чувством своей немощи, ничтожества, греховности и недостоинства говорить ему что-либо. Ибо его дело – это его болезнь, одр, на котором он распростерт. А у нас какое дело? С чем мы приходим к людям? Где печать нашей искренности, убежденности и твердости нашей веры? Поэтому кажется, что приличнее молчать в присутствии болящего, молиться о душе своей, но совесть подсказывает нам, что мы имеем нравственное право на слово, если оно исходит из сострадающего сердца, из сердца сожалеющего, сердца, исполненного сочувствия к человеку. Ему не нужно наше слово, если оно формальное, черствое и является только внешним выражением соболезнования, как бы частью этикета, некоей условностью. Ему не нужна наша печальная мина при черствой душе. Ему нужно иное – наше сердце, чтобы мы свое внимание остановили на нем или хотя бы на малое время включили в свой внутренний мир драму, а может быть, трагедию его жизни. Вот тогда он, конечно же, все почувствует и поймет без слов и с благодарностью посмотрит на нас. Возьмет нашу руку своими исхудавшими пальцами, и мы ощутим, что свершается дело действительно угодное Господу, некое таинство, соприсутствие здоровому и больному Христа – Врача душ и телес.
Доктора до сих пор дискутируют о том, должно или не должно сообщать больному о постигшем его тяжелом недуге. Интересно, что еще два десятилетия тому назад, когда ставили диагноз "рак", то на руки не выдавалось медицинское заключение, даже делали пометку: "На руки не выдавать". А, например, в Америке совсем иное восприятие онкологии, нежели в России. К ней относятся как к любому другому заболеванию, больные не скрывают ее, а ближние стараются не быть подавленными этой информацией, но со знаменитой американской улыбкой, а некоторые, наверное, и не без веры в Воскресение Христово несут этот крест.
На упомянутой телепередаче я, кстати, узнал о том, что легендарный американский велосипедист Лэнс Армстронг вылечился от рака с Божьей помощью. И, сам испытав такое, захотел помочь другим больным и открыл специальный фонд. Теперь почти в каждом магазине в Америке покупатель может за один доллар приобрести какой-нибудь желтый шнурочек или мешочек в знак сострадания и участия в борьбе с болезнью. И сейчас это уже миллиардный фонд, очень много средств перечисляющий на новые технологии в лечении рака, на аппаратуру и лекарства.
Нынче, правда, и наши медики считают, что нужно подготовить больного к тяжелому известию, дабы и врач не лишен был надежды на положительный результат и мог работать, и больной не был сражен этой новостью и убит духовно. Многие полагают, что моральный фактор в деле врачевания рака очень важен. Да и, наверное, в борьбе с любой другой болезнью вера нужна. И вера в успех лечения, и, прежде всего, вера в Бога, Его всемогущество и благость.
Немного отвлекусь от нашей темы, сказав, что прогресс в данной области замечательный, особенно в отношении лейкоза – рака крови. Если еще 10 лет тому назад 90% детей умирали от этой болезни, то сейчас, благодаря многим достижениям и открытиям, болезнь эта во многих случаях врачуется. Кроме того, замечу, очень важна профилактика; жить надо здраво, честно, благородно. И ни в коем случае не затягивать обращение к врачу при первых подозрениях, потому что в этом деле самое главное – своевременно проконсультироваться, не запуская развития болезни.
Но вернемся к теме общения с тяжко болящим человеком. Во-первых, надо сказать о том, какие благотворные изменения производит болезнь в человеке. Он может и не осознавать этих изменений, но ведь все бывает по Промыслу Божию, все провиденциально. Господь близок к каждому страждущему. Не зря же в Писании сказано: страдающий плотию перестает грешить (1 Петр. 4, 1). Так уж оборачивается тайна жизни, что наше падшее естество, в том числе и телесная субстанция, едва лишь бывает уязвлена жалом болезни, обретает предел греху, прежде насиловавшему тело и самую душу человека. Болезнь является уздой, полагающей, часто против воли самого больного, предел бесконечной веренице грехопадений.
Во-вторых, болезнь выводит человека из обольщения преходящим миром. Может быть, потому что многие удовольствия перестают быть притягательными для страждущего. Скажем, человек, имеющий утробные болезни, уже смотрит странным взглядом на чревоугодников; тот, кто поражен другими немощами, является господином над плотской страстью. Болезнь отрезвляет, как бы оздоравливает дух человека, даруя господство души и разума над телом и живущими в нем страстями. В этом может убедиться каждый на собственном опыте и на опыте своих ближних. Бывает, мама говорит своему взрослому сыну: "И какой же ты был хороший, пока болел! У тебя лицо изменилось, выражение глаз иное". Радуется, что выздоровел, но жалеет, что сейчас уже не такой хороший, как во время болезни. Действительно, мы, священники, хорошо это знаем, как облагораживается, возвышается душа человека, как проясняется образ Божий в страдальце. Особенно, когда мы с верой и смирением несем крест болезни.
Наконец, болезнь является первым звонком, извещающим, что в перспективе маячит исход. Болезнь есть напоминание о кончине, но не как об уничтожении личности, а как о дне явления пред Лице Божие. Болезнь помогает нам без труда выполнить древний наказ: помни последняя твоя, помни о смерти. Memento more. Помни о том, что ты должен таки разрешиться душой от тела. В этом смысле болезнь есть великий друг для страждущего и гибнущего от грехов человечества.
И все-таки в нас неистребима жажда здоровья, и все-таки мы жизнелюбивы. Болезнь все-таки неестественна для природы человека, изначально бессмертной. Вот почему с болезнью всегда сопряжен подвиг – напряжение нравственных и телесных сил человека. И как по-разному мы поставляем себя пред лицом болезни, как по-разному чувствуют и ведут себя больные.
Далее перечислим в тезисной форме то, что относится непосредственно к слову, обращенному к человеку страждущему.
1. Безусловно, главное – это энергия состраждущей любви, душевность, теплота, заквашивающая не только само слово ваше, а все обращение к человеку при приближении к нему. Ваши глаза, выражение лица, движение и слова – все это, конечно, нечто единое, пронизанное у христианина любовью, которая живительным образом действует на больного. Неслучайно, когда приходишь куда-нибудь в 1-ю или 5-ю городскую больницу и видишь девушек-христианок, они кажутся вам ангелами, особенно после опыта собственного пребывания или ухаживания за родственниками в обыкновенной больнице. Такой контраст – свет и тьма, рай и ад – в этих нянечках и сестричках милосердия усматривается однозначно. Поэтому решусь сказать: даже неважно, что ты говоришь, как ты утешаешь, какие у тебя слова найдутся, есть у тебя грамматические ошибки или нет – главное то, чем заквашено это слово, насколько оно согрето твоим мужеством, терпением, насколько ты умеешь преодолеть естественное отвращение от смерти и тления. Насколько ты преодолеваешь себя, чтобы не показаться каким-нибудь брезгливым белоручкой. Одним словом, главное – это энергия любви.
2. Если речь идет о духовном слове, думаю, что важнейший источник утешения – напоминание о том, что Господь неизмеримо близок к страждущему, что это Он, подлинный Врач душ и телес, взявший большую часть наших страданий на Крест, склоняется над одром умирающего. Кому, как не больному человеку, близко изображение страждущего на Кресте Спасителя, изливающего Кровь на наши язвы. Конечно, вряд ли найдется человек, который будет прямолинейно говорить страдальцу о том, что он наказан по своей вине и каждым словом пригвождать его к одру. Нет! Но, между тем, конечно, очень важно указать, что путь облегчения физических страданий проходит через очищение совести, через баню покаяния, через раскрытие язв души, которых время не лечит. У меня есть прихожанки, которые находятся просто на передовой линии в духовной жизни. Особенно одна скромная женщина, она добровольно ухаживает за больными. И никому ни словом не расскажет о том, чем занимается. А у нее дар – она готовит людей к исповеди, причем, тяжко болящих и детей, и взрослых. При этом ей приходится даже понуждать священников, которые порой от усталости сетуют на то, что слишком уж много людей приготовлено к принятию Святых Таин. А сестры, эти наши ангелы, с батюшками мирно "воюют" и все тащат их зайти и сюда, и туда, да еще и в следующую палату, и еще в десять, где их с нетерпением ждут. И при этом она помогает больным составлять исповеди. Это, конечно, дар – вот так бережно прикоснуться, как к цветку, к сердцу человека, на все хорошее согласному, лишь бы полегчало. Не расковырять 0, а приложить бинтик с лекарственной мазью. Например, так: "А что там еще у нас могло быть в молодые годы? Вот такое, наверное, было…" – "Ну, конечно, бывало". – "Вот и давайте запишем, чтобы батюшке легче было исповедать. Измены были? Сколько таких нарушительниц общественного спокойствия найдется в вашей биографии?.." Да, это дар. И нужно видеть, какой она приходит в храм молиться, какой полной жизнью живет, как радуется Господу, как часто и благоговейно приобщается Святых Таин, потому что она действительно держит Христа Спасителя за ризы.
3. Нельзя быть уверенным в том, что больному обязательно физически станет легче после исповеди и причащения Святых Таин. По-разному бывает. Как-то пришел батюшка к такому тяжко болящему. Он очень надеялся, что человек покрестится, исповедуется и причастится, и вот воскреснет, встанет со одра болезни. Лев, раб Божий. Мы с ним исповедались, крестились, причастились. Ему полегчало. А потом как-то снова стало тяжко. И он сник и обмяк... Конечно, ко Христу мы приходим с надеждой на врачевание. Но и не должны отвернуться от Господа, коль Ему благоугодно будет крест болезни оставить при нас.
4. Можно и должно, особенно священнику, говорить с человеком о кончине. Но так, чтобы это слово было озарено надеждой на безграничную милость Господа к кающимся, упованием на жизнь бесконечную. Не следует пугать невоцерковленных людей извещением о том, что едва лишь душа начнет выходить из тела, здесь, у твоей кровати соберется вся нечистая сила. Между прочим, нам известно, как лукавый в последний момент хочет выцарапать, так сказать, выцыганить маловерную душу, ввергнуть ее в отчаяние, в самообольщение. Достаточно почитать об этом "Невидимую брань" Никодима Святогорца, замечательный труд, переведенный святителем Феофаном на русский язык, последний раздел "О четырех предсмертных искушениях". Итак, не следует наводить страх и ужас, но надо говорить светло, так, чтобы душа окрылялась надеждой. Говорить о том, что главное сокровище нашей души – это молитва. Молитва – это светлый луч, который соединяет наш ум и сердце с Господом. Молитва – это мерцающая, горящая лампада, лучи которой расходятся и освещают всю вечность. Если у нас в сердце будет постоянно присутствовать молитва, то, поверьте, никакие исчадия тьмы не смогут даже приблизиться к нам. Напротив, молитва к Иисусу Христу и Богородице привлекает Ангела Хранителя, который простирает крылья над нами и защищает нас.
Говоришь обо всем этом человеку, когда его исповедуешь – например, мужчине, который всю жизнь работал на заводе "Динамо", а теперь болен, метастазы у него множественные, и он в первый раз исповедуется. Говоришь с ним об этом и спрашиваешь: "Вы понимаете, о чем я говорю?" – "Да, батюшка. Все это я понимаю". И веришь, что понимает. Ибо православный человек духом получает извещение о реальности невидимого горнего мира, хотя, чтобы эти духовные предметы были поняты и вкоренились в сердце, требуется вся жизнь. Поэтому необходимо непрестанно ободрять, поддерживать человека страждущего, но маловерного. Вновь и вновь ему эту инъекцию просвещения и любви делать, такую духовную капельницу ставить. Оставьте его наедине со своими мыслями, он к вечеру опять превратится в какого-нибудь ропотливого брюзгу. Но поэтому-то мы и связаны круговой порукой любви, что призваны постоянно заступать немощных, долготерпеть ко всем 27, как говорит апостол Павел. И наше здоровье является, хотя бы частично, достоянием немощных и больных. И таким образом восполняется недостающее, и Господь прославляется как через терпение страждущих, так и через любовь ухаживающих.
Поговорим о психологии восприятия духовного слова людьми, находящимися во власти аффекта, то есть одержимыми страстями гнева, уныния, плотского или блудного возбешения, и об особенностях общения с ними.
Конечно, если речь идет о группе людей, находящихся в неистовстве, не нам браться за слово назидания и вразумления. Апостол Павел может справиться с толпой, одержимой страстью, но не мы. В Священном Писании, в Книге Деяний апостольских, имеется несколько свидетельств тому, как святой апостол даже намеренно ввергал себя в среду беснующейся толпы, будучи удерживаем учениками от неминуемой смерти. Есть очень выразительное место в Книге Деяний, где говорится о том, как апостолов Павла и Варнаву в городе Листре 28 язычники приняли за богов, потому что они чудесным образом исцелили хромого. Им даже хотели принести жертву. Они едва сумели убедить язычников не делать этого явно богохульного поступка, и когда словесных доводов уже не хватало, разорвали на себе одежды. Меня всегда удивляло, как речь апостолов к людям, находящимся в ажиотаже, охваченным идолопоклонническим неистовством, возымела действие. Ведь, как сказано, они едва убедили народ и жреца отказаться от задуманного предприятия. И они добились успеха именно тогда, когда прибегли к столь удивительному ораторскому приему – разорвали на себе одежды и обратились со словом увещевания о том, что Бог свидетельствует о Себе благорастворением воздухов, обильными дождями, Своими благодеяниями к людям и дает познать Свое могущество, и поэтому ни в коем случае нельзя поклоняться тленным человекам.
Если же речь идет о нас, грешных и немощных, то я бы советовал бежать из класса, ученики которого ходят на головах, мечут друг в друга портфели или встречают педагога безумным – даже не смехом, а лошадиным ржанием, не говоря уж о всяких ругательных словах. Нет, мы слабы и немощны, и наше слово да будет сокрыто в глубинах сердец и не изойдет оттуда.
Но когда встречаешься один на один с людьми, тут уж вам и свечи в руки. По крайней мере, к священникам весьма часто приходят и сами люди, одержимые одной из перечисленных страстей, и подводят таковых: мать – сына с исколотой рукой, или муж жену, которая видеть его не хочет, потому что влюбилась и готова гореть на медленном огне за эту свою любовь. "Батюшка, не слушайте ее, – говорит страдалец. – Она в помрачении, у нее тихое беснование. Только помолитесь, помогите. Ведь трое детей". Часто и наоборот бывает. И тут уж, действительно, бежать с поля боя нельзя. Ну, на священниках лежит особая ответственность, но и особую силу дает им Господь в подобных случаях. Однако и священники, бывает, при встрече со страстным человеком сжимаются в комочек, как тушканчик – как бы тот не пырнул в живот каким-нибудь колющим предметом. Мне приходилось, надо сказать, и в такой ситуации оказываться.
Особенно запомнился случай, когда пришлось мне беседовать с человеком, одержимым винной страстью. Как-то, выйдя из храма, я пытался урезонить молодого человека богатырской наружности. Он был в сильном подпитии и задирал прихожан. Часто люди пьяные принимают священника чуть ли не за патриарха. А этот молодой человек был нового типа: "Что, еще ты тут?! Ну и что, что ты батюшка? Сейчас я тебе покажу батюшку". Ну, я кулинарного училища не оканчивал, еще хуже – на филологическом факультете в университете учился. Там нас не учили в глаз давать. Поэтому я, не показав виду, что струхнул, не слишком уверенным голосом говорю: "Ну, что это вы так на батюшку? Не надо. Я же батюшка". – "Ах, ты батюшка?! Сейчас я тебе как батюшке и вмажу!" Ну, слава Богу, эта наша дискуссия разрешилась для меня самым счастливым образом. Вмешался один человек по имени Николай. Он продает на рынке запчасти для автомобилей и знаком, конечно, с жизнью во всех ее проявлениях. Посмотрев две секунды на происходящее, Николай выдвинулся из группы благочестивых мирян, которые жалели пьяного бугая: "Ой, бедненький, на батюшку лезет, совсем уж, видимо, тяжело!", – легонько отодвинул меня в сторонку и как-то очень ловко всего лишь дважды и ударил-то дебошира – один раз куда-то в подреберье, второй по шее. Тот свалился прямо на газоне. Протрезвел очень быстро, стал просить прощения. Какая-то дама вынесла святой воды и стала его отпаивать. Вывод: нелегко беседовать с одержимыми, – я только это и хотел проиллюстрировать примером.
Для успешного общения с людьми, находящимися в состоянии аффекта, прежде всего, нужно определить, кто с тобой говорит: человек или бес. Любой мало-мальски опытный христианин может это понять. Едва лишь вы поставите себе этот вопрос, как сердце вам даст ответ. Да, действительно, довольно легко уловить момент и почувствовать, когда вмешивается в ваш диалог третий лишний. И с нами-то, к греху и стыду нашему, бывает, что мы сами себе не принадлежим, что на нас кто-то ездит, да еще и потешается. Но очевидно, имея дело с возбужденными людьми, мы должны тотчас зафиксировать внутри себя: ты имеешь дело с демоном, а не только с человеком.
Кстати, видом беснования, видом тихого помешательства является гордыня. И гордыня обыкновенно через человека задает такие вопросы, что весь Свято-Тихоновский гуманитарный университет будет думать и не найдет ответа, настолько этот змий, этот падший дух за семь с половиной тысяч лет натренировался и знает, как смутить православного собеседника, как ввернуть шпильку коварным вопросом, исполненным скепсиса, отрицания, недоверия. И если вовремя в общении с человеком ты поймешь, что в ваш разговор вклинился падший ангел, то будешь похож на Дон Кихота, сражающегося с ветряными мельницами. Кстати, и в нашей частной жизни очень полезно немножечко приостановиться, послушать человека и понять, что происходит, не участвует ли третий в вашем разговоре. Повторяем, сделать для себя это открытие очень важно. Потому что, едва лишь вы почувствовали присутствие нечистой силы, нужно сразу стать на стражу, чтобы не подпасть под ее влияние. Да, на войне как на войне. От вас требуется хладнокровие, мудрость, смекалка, умение выждать момент, великая осторожность, чтобы не засветиться, не сделаться удобной мишенью. С вашей стороны – трезвение, внимание, молитва. Только сложив все эти составляющие, вы можете надеяться на успех, ибо будете понимать устроение души собеседника, его психологию, с мистической стороны оцените, с кем имеете дело.
Итак, от христианина требуется внутреннее внимание, большая сосредоточенность, мир, кротость и спокойствие сердца, чтобы не войти в резонанс с непрошеным собеседником. Ибо сказано, что мы подобострастны, то есть заимствуем друг от друга страсти. Это ведь не на интеллектуальном уровне такое происходит, а на духовном. Здесь имеет место очень большое напряжение сердца. В таких встречах, которые можно назвать славянским словом "срящ" – неприятная встреча, у тебя в душе все подняться хочет, как девятый вал. Ну, скажем, от чужого гневливого расположения тотчас искра вспыхивает – ответная реакция. Особенно, если эта страсть в тебе уже свила свое гнездо и задевает за живое. Какая, повторяю, нужна выдержка, хладнокровие, внимание, сопротивляемость моменту, чтобы и остаться самим собой, и занять ту оборонительную позицию, которая одновременно будет и плацдармом для атаки и победы над дьяволом.
Я бы сказал, что состояние внутренней тишины и покоя – это уже без пяти минут победа в общении со страстным человеком. И более того, мы, священники, считаем своим поражением всколыхнувшуюся в душе страсть. Она могла еще не проявиться внешне: ты не стал орать, как орут на тебя, ты не стал размахивать руками в ответ на тычки, но это уже поражение, когда на словесном уровне ты начинаешь нервничать, трепыхаться, теряешь спокойствие.
А теперь рассмотрим разные виды страстей, завладевших нашими собеседниками. Безусловно, в неодинаковых условиях при этом окажутся священник, друг семьи, благожелатель, за помощью к которому обратились, дабы как-то утихомирить, повлиять, побеседовать с человеком, и наконец, сам домочадец, которому хотелось бы благотворно повлиять на нравственный мир близких, дорогих ему, но глубоко несчастных, обуреваемых той или иной страстью людей. Я приведу конкретные примеры из пастырской жизни. Ясно, что мы не можем всецело себя отождествить со священником. У него задачи особые и полномочия особые, но все равно такой пример пойдет на пользу.
Начнем с седьмой заповеди – с того, что называется плотская одержимость, или состояние блудного возбешения. Говорим о человеке, явно попирающем нравственный закон, согрешающем против целомудрия, находящемся в состоянии блудного падения либо прелюбодеяния. Падением блудным называется грех людей, не состоящих в супружестве. Конечно, в разных состояниях люди могут находиться. Кто-то придет с повинной. Как недавно на исповеди один молодой человек весьма смиренно сказал: "Батюшка, я блудник, помогите мне!", – и конкретно назвал, в чем был повинен.
Совсем другое – воинственное отстаивание якобы прав человека. Сейчас мы выделим некоторые общие характеристики личности, одержимой этой страстью. Не случайно народ называет такое состояние помрачением. Свойства блудной страсти таковы, что, завладев человеком, его душой и телом, она кардинальным образом меняет его дух, его миросозерцание. Для меня как священника нет ничего удивительного, если я узнаю, что добропорядочная христианка, вляпавшись в эту страсть – блуд или прелюбодеяние, отошла от Церкви или называет себя неверующей и перестает верить в таинства. Ничего в этом удивительного нет, потому что блуд совершенно изгоняет благодать Господню из ума и настолько помрачает человека, что одержимый готов белое назвать черным, а горькое – сладким. Такой человек, служа страсти, будет действительно черное назвать белым и будет отрицать совершенно очевидное. Например, попавшись на этот крючок, мать может забыть своих детей, перестать заниматься их воспитанием. Может стать совершенно равнодушной к их насущным потребностям. На время, конечно, пока это беснование продолжается. Наверное, не нужно рассказывать о том, что жена может возненавидеть своего мужа – кормильца и главу семьи. Общаясь с таким человеком, нужно быть очень осторожным, чтобы все ваши заготовленные тезисы он тотчас не отфутболил со смехом, а то и с банальной грубостью.
Возникает вопрос: а надо ли вообще говорить с такими людьми? Надо, надо. А если вы священник, так просто обязаны. Если она, хоть и упирается как мул рогами и копытами, все-таки пришла к священнику – не насильно муж привел гулящую жену, сама таки пришла – значит, что-то есть в ее сердце, какой-то еще уголочек, не занятый грехом. Думаю, что если речь идет о вразумлении дружеском или пастырском, всегда нужно перспективу указывать. Бес слепит очи, он говорит: "Возьми, насладись, а потом пусть все горит синим пламенем!" Так про себя люди с мнимым бесстрашием и говорят: "Да я готов на какой угодно адской сковороде жариться, лишь бы сейчас схватить мгновение". Нет, брат, все-таки лучше тебе на сковороде той не оказаться, прежде подумай о последствиях. Как правило, разрушение является немедленным последствием вот таких безумных падений. С этической, нравственной точки зрения – позор. Ну, сейчас, может быть, это не позор, сейчас это "пора-пора-порадуемся на своем веку". А все-таки, срам. А дети? Разве они заслужили номинального отца, когда он отвернется от женщины, недостойной называться матерью своих чад? Вот вы так легко сейчас зачеркиваете пятнадцать прожитых лет. А вы подумали, кто, кроме него, которого вы сегодня не удостаиваете наименования своего супруга, о вас позаботится, когда жизнь выкинет вас на обочину? Кому вы нужны на самом деле? Вот этому альфонсу, знающему, что он связался с венчанной супругой? Вы ему нужны? Да ему ничего не нужно, кроме возбуждения его предстательной железы! Если бы он вас любил, он бы руки бы спрятал за спину и не стал бы соблазнять и склонять к греху. А если он свои сальные персты бестрепетно простирает к новоявленной Солохе 29, то значит, у него нет "ни божества, ни вдохновенья, ни слез, ни веры, ни любви". Когда батюшка по-доброму говорит так, как правило, омраченное лицо начинает плакать. Плакать, потому что чувствует правоту этих слов. Но зачастую, подобно страусу, прячет голову в песок, не желая-таки расстаться с этим мнимым настоящим, обманывая себя самое.
И все-таки помрачение – это такое состояние, из которого выводит не слово, но жизнь. Слово вы обязаны произнести, и оно будет как жезл, протянутый человеку, утопающему в трясине. Не давайте руку, чтобы и самому не оказаться в болоте. Дайте жезл – слово увещевания, уведомления, предупреждения, ужаса о случившемся; может, это будет спасительная капля отрезвляющей микстуры. Но подчас должно пройти время. И оно, конечно, все расставит на свои места. Есть Высший суд, он недоступен звону злата 30. Этот суд познают в своей жизни "наперсники разврата". По русской пословице: Бог шельму метит.
Иное состояние тихого помешательства с явным душком растления наблюдается у достаточно большой части нашей молодежи – в светской, студенческой, школьной аудитории. Многим приходилось убеждаться, что нынешние старшеклассницы, чем ближе выпускной бал, тем больше напоминают падших женщин; иные из них таковыми и являются. И здесь, конечно, когда речь идет о растлении ума, о ложных жизненных установках, не ругаться надо, но живой нравственный идеал представить вниманию слушателя, о чем мы говорили, когда беседовали о проблемах молодежи.
Что касается гневливца – человека, чуть что не по нему, рвущего все на части, мятущегося и мечущего в вас искры, как средневековый дракон, то об этом прекрасно говорит блаженный Феофилакт Болгарский, советовавший заливать огонь раздражения водой собственной кротости. Кротость, действительно, в этом отношении является неким спасительным покровом, препятствующим проникнуть в вас даже одной искре этой демонической страсти, которую в ее апогее Святые Отцы называют печатью антихриста. Да-да, страсть гнева – это духовная печать антихриста. Так вот, победителем в этом словесном поединке мы назовем того, кто, почувствовав, к чему идет дело – поножовщине, рукоприкладству, метанию предметов или словесным нецензурным оскорблениям, или еще чему-то подобному, тотчас прячется в ракушку смирения и кротости. Смирение есть признание себя рабом неключимым 31, самым недостойным, ничтожным существом, достойным всякого наказания и муки.
А если противник, несмотря на ваше смирение, все равно нападет – надо защищаться. Но, продумывая средства и методы защиты, избегайте живодерства. А самое верное средство какое? – Конечно, молитва.
Очень много значит в словесном общении с человеком, раздираемым гневом, – интонация. Но только не заученная и вымученная, а которая рождается в недрах сердца, жалеющего этого человека. Коль вы понимаете, что перед вами человек, находящийся в состоянии аффекта, то есть совершенно больной, подвластный, подчинившийся полностью болезни, вы будете с ним беседовать так, как будто бы каждым словом помазываете обнаженную рану. Такое возможно, только если вы стоите в полноте духовного вооружения и имеете мягкость сердца и слова.
Мне приходилось в самых разных случаях общаться с гневливцами. Скажем, приходит мама со своим отцом, дедушкой и юношей-сыном. Юноша явно болен агрессией. Это познается по тому, что мама пришла зимой в черных очках, у нее разбито лицо, фонари под глазами; у дедушки тоже, хотя таких явных следов не видно. Понятно: этот здоровенный амбал с квадратным подбородком побил маму с дедушкой. А те и говорят: "Батюшка, мы вам привели мальчика нашего. Видите, маму побил, на деда руку поднял. Сделайте, батюшка, что-нибудь". А его даже санитары боятся.
И как быть? Очень много, конечно, значит внутренняя молитва, так как вы имеете дело более с бесом, чем с этим несчастным юношей. Его лукавый "обхождаше" – вокруг ходит. Вы молитесь – это первое средство самозащиты, потому что Бог, если внутренне вы взываете к Нему, не попускает одержимым людям распускаться. А потом вы с ним начинаете разговаривать. Но мысли шальные мелькают, конечно: "Сейчас он как тебе даст по скуле!.." Но не будем слушать помыслы. "Как же вы, дорогой, маму-то?.. А давайте вспомним, кто у кого в животе сидел: вы у мамы или она у вас?" – "Ну, я". – "Ну вот, мама вас носила под сердцем, питала грудью, и вы так ударили ее по лицу. Это ведь грех, наверное?" – "Грех, грех". – "Ну, давайте каяться… Прости, Господи, и помилуй". – "Каюсь".
И здесь, конечно, главное – это одушевленность интонации и понимание, насколько глубинны эти процессы в человеке, внутреннее жаление его, беседа с искренностью и простотой, именно по-детски. Вспыхни малейшая искра негодования, раздражения – он тотчас сам перейдет в нападение. А вот так – обезоружить его мягким журением, доброй укоризной, предложив раскрыть совесть Богу; не в области моралистики действуя, можно достичь скорее успеха.
Чаще всего приходится встречать людей, находящихся в состоянии глубокого душевного упадка. Не просто печали безысходной и перманентной, а некоего уныния и безнадежности, именуемой отчаянием. Иногда это случается на фоне депрессии или какой-то другой болезни. Но сейчас кто из нас застрахован от минут разочарования, печали? Никто. Следует признать, что иногда отчаявшиеся люди переходят в состояние буйства. Агрессия у них по-разному может выражаться. Видимо, такое напряжение в душе накапливается, такая невыносимая тяжесть, что это может выражаться в истерике. "Батюшка, я глубоко страдаю. У меня все болит! Бог меня вылечит или нет?! Скажите, вылечит меня Господь или нет?! Почему Он меня не исцелил до сих пор?!", – спрашивает человек с неподдельным трагизмом, а сама постановка вопроса такова, что вы понимаете: срыв налицо. "Бог меня исцелит? Ответьте мне сейчас?!" А для того, чтобы батюшка никуда не делся, его надо за руку схватить покрепче. Я думаю, что даже когда Иосифа Прекрасного схватила жена Потифара, это была не такая крепкая хватка. "Вот сейчас скажите мне, исцелит ли меня Господь?!" И что вы будете говорить? Какими риторическими фигурами пользоваться? Есть, конечно, такие замечательные фразы, которые являются панацеей: "Успокойтесь, все будет хорошо. Все наладится. Уж если есть Господь, Он же самый хороший – все образуется". – "Это правда? Все будет хорошо?!" – "Да, я уверяю вас, я в это верю глубоко, все будет хорошо". – "А если не будет?!" – Ну, почему "если", мы же с вами веруем в Господа Бога Вседержителя, Творца Неба и земли, видимым же все и невидимым…" Да, думаю, что в последних двух описанных случаях (я имею в виду – гнева и отчаяния) сторона утешающая должна действительно увидеть и в том, и в другом человеке ребенка, увидеть душу. Без милости, без участия сердца здесь ничего не сделаешь.
Есть еще один сложный случай, когда человек играет, беря на себя роль отчаявшегося или человека, не отвечающего за свои поступки. Очень сложна, конечно, сфера общения, и, по крайней мере, священники, которые выступают как народные врачи, сердцем чувствуют, что в силу вступил драмтеатр, началось выступление: "Вот хотите, батюшка, я сейчас такое сделаю!.." – "Нет, я этого не хочу". Конечно, ты понимаешь, когда вступает в действие тяжелая артиллерия и человек сам уже не знает, играет он или действительно таков. Часто встречается и смешанный вариант. Дело в том, что каждый из нас по-разному себя проявляет. И иной человек порою не находит для себя лучшего амплуа, чем ходить на грани фола, он свою индивидуальность выражает таким болезненным и неестественным образом. Это, конечно, развращенность, в которой надо каяться. Ибо ясно, что не к тому призывает нас Господь, говоря: будьте как дети, – то есть бесхитростные, чуждые лукавства, простые, любящие, милостивые. Что касается людей гордых, то упоминаемый нами преподобный Никодим Святогорец, свидетельствовал, что один Бог может смирить гордость ума. А ведь есть и такие гордецы, которые решаются, как моська, лаять на слона: Церкви предъявлять счет. А ведь и таковых немало. "Батюшка, вот я прочитал (прочитала) Евангелие, – говорит такой гордец. – В общем, это чтение мне понравилось, но со многими положениями я не согласен (не согласна)".
Когда человек осмеливается сомневаться в высшем авторитете – Евангелии, Церкви, Божественной истине – требуется особое искусство, особые смирение и любовь, чтобы не повредиться от собеседования с совопросниками века сего. Всегда замечаешь, что Господь дает тебе особый подход и особые слова в общении с нецерковными людьми, склонными теоретизировать и высокоумничать. Приходится находить примеры, в которых отчасти соглашаешься с инвективами 32, выдвинутыми против служителей церковных, а вместе с тем и указывать на погрешимость этого безапелляционного суждения.
"Я вот, – говорит кто-нибудь, – не хочу обращаться к священникам, потому что все они еще совсем недавно подписку давали на сотрудничество с КГБ. А у меня с этими тремя буквами дружбы никогда не было".
Что ты будешь тут говорить?
"Ну, может, и были у кого какие контакты, но встает вопрос, каковы они по сути. Епископы еще недавно, действительно, должны были встречаться с представителями органов госбезопасности. Из этого вовсе не следовало, что архипастырь продавал им душу. Напротив, он эквилибрировал, отстаивая какие-то церковные права. Ну, а что касается рядовых священников, то как это можно всех под одну гребенку? Думаете, у меня тоже погоны есть?" – "Ну, у вас, положим, и нет, но вы счастливое исключение".
Однако, если уж, действительно, душе понадобится исповедоваться, она и разбирать не будет, потому что исповедь ведь Господь принимает через священника. Я, кстати, помню, встречался с одним "кагебешником", который по роду службы общался со священнослужителями разных мастей и уровней. Он, кстати, исповедовался у меня первый раз. Так вот этот человек, ныне уже покойный, сказал мне хорошую вещь. "Я, говорит, батюшка, по роду своей службы и за границей работал, очень много вашего брата перевидал. По именам, говорит, могу назвать и епископов, и иереев. Честно признаться, говорит, у меня не возникло желания ни у одного из них исповедоваться. Но с другой стороны, я вам ответственно заявляю, что ни один из них, как Иуда, никого не продавал, Церковью не торговал". Раньше по законам времени епископу нередко приходилось с уполномоченным парой ходить (а уполномоченный – это как раз ставленник КГБ). Но из этого вовсе еще не следовало, что епископ или иерей забывал, Кому он служит и ради чего сан священства воспринял.
Все-таки приходится признать, что гордостное восстание на авторитет Церкви наиболее вредоносно для собеседования. Не знаю, каким нужно быть, чтобы потом болезненно не зализывать раны души. Разве только что с колдунами общаться менее приятно, чем с чеховской интеллигенцией. Но, думаю, что главное было уже сказано: в общении с такими людьми слова обязательно найдутся. Как говорит святитель Тихон: любовь подыщет слова. Вам дано будет, в каком устном жанре строить общение, какие тезисы и доводы найти, образумливая загулявшего мужа или пожилую женщину, которая не может простить и схвачена духом злобы. Важно самому оставаться в душевном равновесии, так сказать, на капитанском мостике. Если вы чувствуете, что этого нет, лучше отойти от барьера. Помните, передача такая была – "К барьеру"? На одной из них речь шла о строительстве буддийского храма. И такую пару к барьеру поставили: главного редактора "Православной беседы" В.В. Лебедева и молоденького обаятельного кришнаита, с тонкими чертами лица, такого психологичного, такого доброжелательного. Глаза у него были, как у Мальвины, с огромными ресницами. Не знаю, где и нашли такого. А наш В.В. Лебедев был не слишком убедителен и должного впечатления не оставлял. Мы все даже недоумевали: да что же такое, почему же его выпустили? На его бы место против кришнаита отца Димитрия Смирнова поставить. Он бы нашел что ответить.
Итак, видите, насколько взаимосвязаны между собой области собственно церковного словесного творчества, проповеди, риторики и красноречия, проповеднического искусства – и личностных свойств, качеств, характеристик того, кто это слово готовит и произносит. Поэтому приходится больше говорить о внутреннем мире человека, чем о формальных языковых средствах, иначе трудно не впасть в схоластику, не удариться в отвлеченные материи, ничего не дающие нашей учебной дисциплине. И, наверное, только жизненный опыт является главным нашим учителем.
И закончу словами Александра Сергеевича Пушкина: "О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух, и опыт – сын ошибок трудных, и гений – парадоксов друг".
Душевные заболевания чрезвычайно разнообразны и сложны, их проявление может быть явным и едва уловимым, поэтому общение с такими людьми – дело очень тонкое и непростое. И священники, прежде всего, должны иметь понимание, насколько этот предмет многогранен. Как же иначе, ведь речь идет о болезни человеческой души! Нельзя мнить себя докой в этой области только на том основании, что ты просвещенный христианин и психолог от природы. Нужно, безусловно, изучать накопленные человечеством знания по вопросу душевных болезней. Сейчас появилась полезная книга, которую я всякому бы рекомендовал – "Душа моя – храм разоренный. Что разделяет человека и Бога". Это собранные в одном издании труды профессора Д.Е. Мелехова, отца русской психиатрии, ученого дореволюционного и советского времени, а также знаменитого русского медика Н.И. Пирогова, в том числе его статья "Вопросы жизни".
Интересный раздел о пастырской психиатрии имеется в книге архимандрита Киприана Керна "Пастырское богословие" 33. Действительно, иметь начальные знания о том, чем неврозы отличаются от психозов, отличать органические поражения нервной системы от приобретенных стрессов – дело весьма важное не только для священника, но и для всякого человека, который желал бы правильно строить общение с окружающими людьми. Пренебрежительно относиться к психиатрии и помощи врачей-психиатров нельзя. Несмотря на то, что область психиатрии служила интересам государства при Брежневе. Я имею в виду судьбы несчастных диссидентов и вообще неугодных режиму людей, которых пропускали через советские психиатрические лечебницы – "дурки", как их называли в народе.
Одна из важнейших задач священника, пастыря, и не только их – определить для себя, общаешься ты с душевно здоровым человеком или нездоровым. Сразу возникает вопрос: как это определить, мы же все-таки не специалисты в данной области. На самом деле внутренним чутьем каждый из нас, если находится в относительном равновесии душевных сил, способен определить, адекватен ли человек, то есть здоров ли, уравновешен или имеет некоторую странность, некоторое несоответствие норме, отклонение от нее. Тут во многом делу помогает опыт, накапливаемый в течение всей жизни. Особенно большой этот опыт у педагогов, перед которыми проходят дети разной душевной организации, у священников, которые по самому призванию своему должны быть душеведами, и, естественно, у специалистов, эту область избравших в качестве своей профессии. Но мы сейчас не будем углубляться в эти дебри. Скажем только, что Христова любовь или христианское восприятие, отношение к личности и есть тот мысленный, духовный свет, который помогает в общении с душевнобольными. Помните, у врача ухо-горло-нос специальная лампочка на лбу горит? Вот Христова любовь, христианское расположение к человеку, и есть духовно-мысленный свет, которым только и освещаются душевные недра болящих людей. Этот свет христианской любви или сочувствия, сострадания, сопереживания – он единственный не ранит душу убогого человека.
А что его ранит? А его ранит холодный взгляд психиатра, который смотрит и на здоровых людей сквозь зарешеченное окно схем: каким лекарством закармливать, какой укол вкалывать. Его ранит равнодушный взгляд психолога, который и личность воспринимает как совокупность составляющих ее условных и безусловных рефлексов. Исстрадавшийся по сочувствию и любви немощный брат (а таковым каждый из нас может быть в тот или иной период жизни), отвращается от людей, зацикленных на самих себе – но ищет подлинно бескорыстного, жертвенного к себе расположения. Этого, увы, в наш прагматический век и днем с огнем не сыскать.
В книжке, о которой я упоминал выше, пространно говорится о судьбе великого Гоголя, духовник которого не распознал типичного психического заболевания. Рассказывается и об эпилепсии Достоевского, вопреки которой писатель трудился и с которой всю жизнь боролся. Есть ошибочное мнение, что именно эпилепсия сделала его гением, пророком, прозорливцем. Ничего подобного. Там объясняется, насколько различны симптомы этой страшной болезни, которая порой присутствует в скрытой форме и весьма многообразна в своих проявлениях. Обыкновенному человеку и невдомек бывает, что иные реакции, мотивы, особенности поведения собеседников обусловлены живущей в них болезнью. И досадная наша ошибка, конечно, – воспринимать как здорового того, кто находится на крючке болезни и от нее страдает. И главное достоинство мудрого христианина, не говорю пастыря, в том, чтобы всегда учитывать фактор болезни и таким образом не потрафлять человеку, а с другой стороны, морально не уничтожать его.
Сказанное очень насущно в отношении рядового педагога, трудность положения которого заключается в том, что, в отличие от директора и школьного врача, он не всегда бывает посвящен в истории болезни современных детей. А они сплошь несут на Первое сентября большой букет врожденных болезней. И как часто многие недоразумения, конфликты, психологические и психические травмы дети получают от современных не вполне чутких, непрозорливых педагогов по этой самой причине – неосведомленности последних о трагедиях и драмах, связанных с рождением ребенка или благоприобретенных вследствие тех или иных несчастных случаев.
Итак, мы должны уметь замечать проявления психических отклонений в человеке, чтобы правильно ставить свой собственный диагноз и соответственно ситуации выправлять свое поведение и общение.
Многие душевные и духовные недуги происходят от чрезмерно раздутого "эго" – самолюбия человека. Одна из типичных болезней – уход от мира, потеря остроты восприятия жизни и болезненная сосредоточенность на самом себе. Человек становится не в состоянии забыть себя ни на минуту и весь поток впечатлений, всякое общение рассматривает в призме своего "я". Отчасти это и неизбежно – мы общаемся с миром и с людьми, раскрывая им душу и все взвешивая, анализируя в глубинах собственного сердца. Но у людей душевнобольных эта проекция на себя самого гипертрофируется, что сразу чувствуется. "Ах, как я страдала, когда получила извещение о кончине своей престарелой матери, находящейся в ближнем зарубежье!" "Вы не можете представить себе, как я мучилась в течение той злополучной ночи!" "У меня нет ни минуты покоя, пока мой сын в больнице. Я сама не своя, я лишилась сна!" И всегда, вместо реальных действий и заботы о близких, это бесконечное "я, я, я", возведенное на высоту Джомолунгмы.
Каждый человек, шагая по жизни, либо умаляется в собственных очах, увеличивая удельный вес своего внимания к людям, либо мало-помалу зарастает такой коростой эгоизма, что бывает уже не в состоянии пробиться сквозь скорлупу прагматизма и часто имеет лишь видимость внимания и заботы о людях, не желая отрешиться от себя самого, перестать нянчить самого себя, носиться с собою как с писаной торбой. Конечно, чем менее в человеке жертвенности, внимания, любви, заботы, трудов, посвященных ближним, тем менее он бывает удовлетворен собою и жизнью, тем более он страдает. Тем больше страдает, чем больше обращен на себя. Вот почему такие благодатные профессии, как врач, учитель, священник полностью вас разворачивают в сторону людей и людских судеб, характеров. Вы поневоле должны научиться понимать человека, слушать его, разбираться в людях, и мало-помалу через эти будничные труды, если только вы им не противитесь, но следуете требованиям вашего призвания, вас перерождают, переламывают и возрождают, в конечном счете, вашу собственную личность.
Напротив, в известной степени опасными могут быть такие жизненные призвания, которые совершенно вас изолируют от общества и требуют от вас лишь мыслительных, ментальных операций, составления финансовых схем, но вовсе не приобщают к жертвенным трудам любви.
Вернемся, однако, к нашей материи. Человек, замкнувшийся на себе самом, начинает в гипертрофированном виде воспринимать все, что с ним случается. И это может быть началом душевной болезни. Действительно, человек нормальный, гармоничный, имеющий душевное равновесие, ответственность за жизнь все-таки в состоянии со стороны на себя посмотреть, сравнить свое горе и свою скорбь со страданиями, переполняющими этот мир, иногда улыбнуться, даже посмеяться над самим собой, а значит, и успокоить себя. "Эка невидаль! Терпи, казак, атаманом будешь, – скажет он себе. – До свадьбы заживет! Всякое бывает. Это еще цветочки, ягодки впереди!" Сам того не ведая, он следует за царем Давидом, который залечивал свои сердечные раны и, успокаивая себя, говорил: Вскую прискорбна еси, душе моя? И вскую смущаеши мя? Уповай на Бога (Пс. 42, 5), мужайся, и да крепится сердце твое (Пс. 26, 14) – вот нечто среднее между молитвой и обращением к себе самому, когда человек входит в себя и свою разволновавшуюся душу приводит в состояние начального спокойствия.
Душевнобольной человек с трудом даже понимает, как это делать, но ему и любая малость кажется кораблекрушением, он из мухи, несчастный, привык делать слона. А если он так близко к сердцу и чересчур эмоционально все воспринимает, если ушедший из-под носа автобус – для него трагедия, если несостоявшаяся аудиенция – это фиаско, то налицо определенная взрывоопасная конституция души. Душевная жизнь такого человека – осциллограмма: от салюта счастья до бездн уныния и отчаяния. Расшатанная психика. Плывущее сознание. Сейчас век настолько страшный, настолько агрессивный и лукавый, что и в правду сойдешь с ума без сторонних усилий твоих оппонентов. Так и начинаются все эти неврозы, истерии, а потом и психические недуги.
Как часто жены говорят: "Раньше я разве такая была? Я, когда замуж за тебя выходила, была милая, смеющаяся, счастливая девочка. А то, что я нынче монстр, – это ты, ты, ты виноват!!!" А он сидит, ест гречневую кашу, говорит: "Ну, почему только я? Может быть, это наши совместные ошибки?" Да, действительно, брак – это великая школа. Тот, кто, напротив, учится благодушествовать, мягчеет сердцем, – это великий человек, он находится на правильном пути.
Итак, мы говорили с вами о том, что излишняя сосредоточенность на себе, близорукость, неумение радоваться чужой радости, видеть общую пользу, но стремление лишь к своей выгоде поневоле делает человека суматошным, взбалмошным, склонным к огорчениям; и такого выбить из седла уж совсем просто. Хорошо – мирное течение жизни, а едва лишь только подстанция взорвется, свет погасят в метро, что-то не по-твоему пойдет, да что угодно – Господи, помилуй: крик, ужас, паника, истерика, припадки!
Итак, душевная болезнь – крен, патология, неестественность – имеет своим седалищем человеческое "я" и излишне серьезное к себе самому отношение. Неумение добродушно улыбнуться над собой, понять, что ты не пуп земли и не стержневая ось, вокруг которой вращается наша галактика, но ты "с бочка, с кондачка", малость некая – может привести к началу серьезного недуга. Усвой же себе, что ты не нечто немаловажное, а совершенное ничто.
В связи с этим нужно сказать о великой важности молитвы, которая препятствует развитию психических заболеваний. Это может быть очень простая, но искренняя сердечная молитва, идущая от смиренного сердца. Ведь что такое наше "я"? "Я" – это душа, и она имеет три силы: ум, чувства и волю. Вот и будем молиться, например, так: "Господи! По уму я – самый неразумный и безмысленный человек, по сердцу – нечистый, по воле – немощный, расслабленный. Господи, поистине я ниже и хуже всех в очах Твоих. (Так мы определим свое место на этой грешной земле, что очень важно.) Но, Господи, твердо верую, что Ты меня очистишь, помилуешь и спасешь!" И непременно в конце мажор: "Слава Тебе! Слава Тебе, Боже!"
Душевно здоровый человек читает Псалтирь и умиляется от откровений, которые ему дарует Бог в слове Своем. Помните такое изречение пророка и царя Давида: Человеки и скоты спасеши, Господи (Пс. 35,7)? Человеки – это все окружающие меня, а скот – это я. Слава Тебе, Господи, что и про меня написано в святой Псалтири! А если вы скажете: "Батюшка, какая мрачная философия, что это за самоуничижение, доходящее до уничтожения человеческой личности?!" – не спешите думать, что эта цитата – исключение. Нет, в той же Псалтири читаем: Скотен бых у Тебе [Господи] (Пс. 72, 22), – вот таков я сам: как мул неразумный, как ослик…
Итак, перейдем далее к характеристике страждущей личности. Такой человек очень быстро озлобляется на жизнь, что весьма тяжко для него и несносно для окружающих. Он смотрит букой на ближнего, дуется на него, как мышь на крупу. И подобное отношение к жизни и, соответственно, душевное состояние входит уже в плоть и кровь его, становится привычкой, навыком. Душа уже надломлена, загнана в угол, как джин в бутылку. Больному человеку самому нелегко, и окружающим с ним плохо. Возвратить человеку радость бытия, полноту внутренней жизни, научить его произносить "осанна" жизни, ощущать жизнь как священный дар – непросто, но, с Божией помощью возможно. Тому может служить и наше слово – слово пастыря, проповедника, катехизатора. (Не забудем и о музыке. Разве плохо дать послушать человеку оду Шуберта "К радости" на стихи Шиллера?)
Итак, озлобленность на жизнь, на людей, мутный неприязненный взор, готовность увидеть в человеке недруга, противника, врага, неприязненная характеристика ближних: "Батюшка, главная беда, что я на вашем приходе вижу лишь насекомых! Рогатых, хвостатых и крылатых. Покажите мне человека!" – это беда, которая может перейти в душевную болезнь. Иной настолько увязает в такой человеконенавистнической философии, зверем смотрит на людей, что и впрямь в нем нечто звериное проглядывает, и у него неприметно выщербляются человеческие качества. Этого зверя больно , по существу, сам пускает в собственное сердце, неизбежно умножая свои страдания. Агрессия – один из вернейших признаков душевных отклонений, возникающих вследствие неестественно раздувшейся самости. Очевидно, что агрессивность – заразная болезнь, ею можно изуродовать сердца близких людей, особенно детей. Скажем без обиняков, что несчастное свойство современного человека накапливать горечь, отрицательные эмоции, негатив в отношении с окружающими – это вирус, который сводит с ума и повреждает душу.
Есть и еще одно несчастье. Встречаются люди тихие, совсем не агрессивные, безобидные, полная противоположность тем, кто живет по принципу: "Любой ценой возьму свое". Однако у них имеется очень тонкое отклонение в душе: всегдашняя неуверенность в своих действиях и поступках. Человек всю жизнь сомневается, всю жизнь ходит вокруг собственной оси: правильно или неправильно, хорошо мне здесь или плохо? Это тоже беда. Иногда видишь у представителей молодежи подобную нерешительность, доходящую до патологии. Проходят годы – пять, десять, пятнадцать лет, а воз и ныне там. Человек так и не обрел себя в отношении жизненного призвания, общения с людьми, устроения своей судьбы. Он так и не разобрался, чего он хочет, как ему послужить Богу и людям. Иногда такой бедолага настолько запутывается в жизненных решениях, что и не знаешь, с какой стороны к нему подступиться. Его нельзя и собственной нерешительности предоставить, но и говорить что-либо бесполезно, поскольку он вообще не готов принять никакого совета. Сущая беда – это "нечаяние", то есть потеря надежды.
Особенно переживаешь за людей, которые вроде бы ищут от Церкви благодати, ищут помощи от прихода, от общения с пастырем, но не имеют живой веры во всемогущество и благость Господа Иисуса Христа. Вроде бы не против исповеди и причащения Святых Таин, но взойти на Крест ко Господу, Который распинается за нас, они не могут, не хотят, ибо погружены в самих себя. Не имея веры здравой, зрячей и горячей, они не имеют и надежды. Все у них плохо, все валится из рук; в конце концов, они приходят к предательскому нежеланию жить. А в этом и заключается главная сатанинская хитрость: убедить человека, что ему и жить-то незачем, такой он неудачник, такой он недотепа, такой несчастный. Ах, беда! Убежден: выздоровление пришло бы тогда к этому "вопросительному знаку" (больному человеку), когда бы он обеими руками взялся за ризу Спасителя, восклицая: "Господи, верую, держусь, не отпущу! Веди меня, уповаю, что все будет хорошо, буду трудиться, молиться, хотя сил у меня нет. Но даруй мне Твою благовременную помощь, не оставь меня! За все Тебя благодарю!" Нет, человек маловерный бывает задавлен печалью, она его пожирает – тяжелая жизнь, неудачи, недуги, из-за которых он впадает в состояние уныния и отчаяния. А это не лучше, а может быть, даже хуже смерти.
Есть еще весьма симпатичные, но не очень нормальные люди. У них много положительного, они хотят помогать другим, они полны творческих идей, но "гора способна разродиться лишь мышью". Иногда от их напора еле успеваешь отскочить в сторону – они несутся, как носороги, к осуществлению своей розовой мечты. Про таких сказал русский народ: "Дурная голова ногам покоя не дает". Это сгусток идей, генератор филантропических намерений. Они могут затихнуть только в гробу.
Примечательно, что именно такие люди, не совсем здоровые, но безобидные, светлые, добрые, любящие, оказываются способными к подлинным жертвенным поступкам. Вот вам пример. Приходит в храм с нуждой человек – приличный, не бродяга, серьезный паломник. Оказался в какой-то нелегкой ситуации, нужно его приютить на одну ночь по рекомендации священника. Без благословения лучше за такие подвиги не браться, потому что сейчас под паломников порой мошенники рядятся: обкрадут, да еще скалкой для острастки по затылку дадут. Сейчас нужно пользоваться рекомендацией и благословением священника, который знает людей и худо-бедно разбирается в жизни. Народу вокруг батюшки по обыкновению стоит тьма-тьмущая. Вечер, восемь часов. Отошла утреня, первый час. Батюшка, выявив благонадежность паломника, его добрые намерения, его адекватность, смотрит на прихожан и говорит: "Дорогие друзья, вот человек Божий, нужно определить его на ночлег. Завтра утром он причастится и потом отправится в Сергиев Посад на соборование в Гефсиманский скит. Кто может его приютить?" Народ сразу испаряется. Как было густо, так стало пусто. Вперед делают шаг только "чудные" в обиходном понимании люди. Да-да, я свидетельствую о правде жизни! "Батюшка, – говорит один "идеалист". – Мы живем вчетвером в одной комнате, но на полатях место есть, я готов взять". "Батюшка, – вторит другая "мечтательница", – я бы рада принять, у меня две комнаты, но шаром покати – еды нет". – "Я еду дам, возьмите. Только не приставайте к нему с вопросами. Он устал от путешествия".
Наш Господь – это Господь не мудрецов себе на уме, но Господь простецов, многие из которых настолько альтруистичны, настолько жертвенны, что даже сами себе никакой в этом заслуги не приписывают и поступают по влечению сердца. Хотя с такими людьми общаться бывает нелегко. Особенно страшно бывает оказаться с ними в одном купе поезда дальнего следования. Он тебя за трое суток замучает, делясь своими идеями по возрождению Отечества, обустройству России, или, например, повальному крещению парламента... Ко мне приходил один добрый прихожанин, показывал схему, как крестить наше правительство, начиная с Чукотки. Общаться с такими людьми непросто, тут нужно неистощимое терпение, благодушие и мудрость, дабы уметь хранить дистанцию. Но это жизнь.
А теперь, друзья, побеседовав о психологических особенностях людей с душевными отклонениями, поразмышляем о словесном общении с ними.
Слово – это, образно говоря, частичка твоей души. Слово – проводник сердечных импульсов человека. Слово должно послужить лекарством для собеседника, притом что лекарство, целительное снадобье, преподается искусным врачом сообразно роду болезни и ее проявлений. Камертон Вашей души, молитвенно устремленной к Богу и согретой сочувствием к собеседнику, мгновенно уловит эмоциональную доминанту, определяющую духовный тонус человека. Соответственно, Вы будете подбирать те языковые средства, те интонации, которые окажутся наиболее действенными во врачевании его души. Если ближний подавлен, унынием, "свет ему не мил", он замкнулся от мира, завернувшись в страсть хандры и печали, как в плотное одеяло, Вам нужно подбирать приветствия, пронизанные радостью и жизнеутверждающей силой. Ваша речь не должна быть искусственным бравурным маршем, оглушающим и, может быть, даже раздражающим больного. Все дело в нелицемерной симпатии к собеседнику. Главное – не смущаться его подавленным взором и видимой безучастностью к происходящему. "сердечно рад видеть Вас в этот погожий летний денек! Замечательно, что мы встречаемся с Вами накануне дня Преподобного Сергия Радонежского… Вы бывали, надеюсь, в Троице-Сергиевой Лавре? Нет?! Ну что Вы! Я не передам Вам, какая там благодать! Представьте себе: Успенский собор, окруженный старыми ветлами, чистое небо над ним, а народу… вся Россия сейчас съезжается туда…"
Если Вас сразу не "заткнули", не заставили замолчать, можете продолжать Ваш импровизированный рассказ, стараясь каждое слово одушевить сердечной радостью и веселием… Предположим, собеседник Вас принял благосклонно, ему импонирует выбранная Вами тема... Он вступает в словесное общение с Вами, задает вопросы… Вот уже налицо словесная, а значит, духовная терапия; ваш взаимный диалог оставит в душе знакомого теплый след, душевная энергия как будто удвоится в его сердце… И все это по математически точному закону Блеза Паскаля о одинаковом уровне воды в двух сообщающихся сосудах – применительно к сфере этики. Бывает, что Ваш собеседник нелюдим и недоброжелателен, вплоть до словесной агрессии в Ваш адрес. В этой ситуации очень важно не смутиться, не растеряться, и что особенно следует подчеркнуть – не "войти в резонанс" с чужой раздражительностью. Духовный человек сразу поймет, что в вашем общении принимает участие сторонняя сила, "подселенец" – падший дух, завладевший, к несчастью, Вашим "доброжелателем". А раз свершается "невидимая брань", то и сражаться с демонами подобает страшным для них оружием – словом, проникнутым любовью, кротостью, смирением, доброжелательством и мягким юмором.
Не покажите нападающей стороне, что злые слова задевают Вас за живое! Пусть они проходят мимо Вас, словно стрелы, не попадающие в цель. Будьте мудрым "гусем", с которого, как вода, стекают все инвективы и оскорбительные выражения.
"Да, я вижу, вы сегодня не в духе… Что за муха Цеце Вас укусила? Помилуйте, сударь, но Вы еще слишком хорошо обо мне думаете… вот если бы Вам открылись мои различные недостатки и грехи… Я искренно сожалею, что стал для Вас предметом искушения… достоин ли я, чтобы Вы тратили на меня столько душевной энергии…"
Нужно внимательно следить, чтобы Ваш доброжелательный юмор и сердечное спокойствие не трансформировались в убийственную иронию и сарказм, выдающий холод презрения по отношению к оскорбителю. Всего краше в таких случаях теплая улыбка (говорят, что св. Иоанн Златоустый, патриарх Константинопольский даже приплачивал, чтобы его ругали в лицо – такую пользу он получал от благодушного терпения оскорблений), но это уже удел совершенных.
Как бы то ни было, будем размышлять о словах Спасителя: Благословляйте проклинающих Вас… (Мф.5,44). В какие именно выражения должны облекаться эти благословения? Очевидно, в словеса добрые, мудрые, иногда радостно-шутливые, но неизменно врачующие душу, раздираемую гневом и неприязнью.
Наконец, разберем случай явного помешательства, когда человек не реагирует адекватно на общение в силу мозговых повреждений или иных (духовных) причин. Думаю, можно и должно беседовать с ним, как это бывает при словесном обращении к младенцам, еще не способным рационально осмыслять человеческую речь. Но ведь это совсем не главное в общении! Душа-то, бессмертная, разумная, живая, прекрасная – внемлет, чувствует, общается! Итак, будемте говорить что-либо доброе и достойное образа Божия в человеке, который закрыт от нас (ментально). Энергия любви и благодать, действующая посредством ее, сообщается больному сверхрационально, как это бывает и с малышами. Их сердца не останутся без духовного прибытка… А значит, дело проповеди будет свершено.
Поговорим о совершенно уникальной и своеобразной аудитории: о заключенных. Для начала попытаемся составить себе представление о внутреннем устроении нашего потенциального слушателя, выделить что-то типическое, характерное для этой группы. И затем проанализируем, какие языковые средства, какие стилистические приемы, какой ключ подобрать для того, чтобы их сердца раскрылись и восприняли живое слово.
Кто-то удачно пошутил, что мы в России все условно досрочно освобожденные. Но и без шуток можно сказать, что наша страна, испившая горькую чашу скорбей вследствие богоотступничества, в двадцатом веке стала огромным концентрационным лагерем. И не без помощи, поддержки и одобрения просвещенного Запада, который финансировал этот уникальный эксперимент в течение многих десятилетий – ударную работу на крупнейших комсомольских (понимай, зековских) стройках страны. В этом смысле подозреваю, что на уровне фенотипа, склада личности, мы от наших родителей и дедов переняли страх перед системой, хорошо отлаженной скулодробительной общественной мясорубкой, которая во имя народа вела войну против своего же народа. Хотя в советское время патефоны, граммофоны, художественные картины и кинофильмы без устали твердили о гордости как о высокой черте самосознания советского человека и само слово "человек" звучало очень гордо, но вот этот подлый, ползучий, живучий страх вошел в сердца людей. Особенно в митрополиях – Питере и Москве. Этот страх ночной жизни города, шума подъехавших к дому "воронков", забиравших и рабочих, и крестьян, и врачей, и профессоров; страх, суть которого – бесправие личности, принесение ее в жертву бесчеловечным идеям, проник в плоть и кровь наших бабушек и дедушек. И генетическая память об этом страхе, думаю, во многом отличает нас от западного самосознания, где все творится во имя и во благо (падшего) человека, где иное правовое сознание, где права человека вынесены на щит. У нас в этом смысле психология каких-то рябчиков или куропаток. Раз нас останавливает милиция – значит, мы уже в чем-то провинились. Если нам задает вопрос сотрудник государственной безопасности – значит, это не так просто. "Мы за вами давно наблюдаем. У нас к вам есть несколько вопросов, которые хотелось бы разрешить в доверительной обстановке".
Да уж, действительно, в двадцатом столетии русская пословица "от сумы да от тюрьмы не зарекайся" оправдалась на сто двадцать процентов.
И, конечно, живя в России, как бы кто ни относился к творчеству Солженицына, положительно или отрицательно, но "Архипелаг ГУЛАГ", общим объемом в шесть тысяч страниц, нужно прочитать от начала до конца, и притом неспешно. Хотя мы в свое время читали его за три дня. Ибо всё, о чем написано в этом произведении, писатель испытал на собственной шкуре, прошел огонь и воду и медные трубы. Психологию заключенного применительно к новейшим бесчеловечным условиям СЛОНа – советского лагеря особого назначения – писатель раскрыл с не меньшей глубиной, чем некогда это сделал Федор Михайлович Достоевский в "Записках из Мертвого дома".
Особенно впечатляют первые главы "ГУЛАГа", когда главный герой, читай: автор, только попадает в эту систему, где суждено ему провести более десяти лет. Как глубоко им описана психология человека невиновного и неизвестно кем несправедливо осужденного, надеющегося через двадцать три дня получить свободу! Как пронзительно рассказывается об этой демаркационной черте между гражданской вольницей, свободой и режимным бытием. Иное время, иное пространство, иное самочувствие. Это, конечно, нужно знать. Тем паче, это близко всем нам, ибо нет семьи, которая в лице деда, или двоюродного дядюшки, или других родственников не прошла через страшные истребительно-трудовые лагеря "великого стратега", ругать которого сегодня непопулярно. Популярно обелять и возводить на пьедестал. Однако слов из песни не выкинешь, это было.
Конечно, в нашем отечестве узники делились на "политических" и на "блатных". И вряд ли уже мы когда-нибудь вернемся к благородству этих "политических" – людей, страдавших за идеи, за идеалы, особенно за Христа и Церковь Его.
Страшно, когда узаконивается произвол, а сильный становится правым. Не приведи Бог, чтобы в нашей жизни доминировали законы уголовного мира. Они все сформулированы в "Архипелаге ГУЛАГе" у Солженицына: "сегодня подыхай ты, а завтра я. Вот девиз "эрок". "Брали, и брать будем". Так возглашали "блатные", обчищавшие карманы "политических", с этапа поступавшие в одну с ними камеру.
Современные зоны, или лагеря – это действительно особый мир, законы которого изучаются только на практике, по водворении туда. Те, кто писали о местах лишения свободы в сталинские годы, говорили о том, что администрация имела обыкновение входить в теснейшее единение с ворами в законе. И с помощью этих самых воров и уголовников строились и дисциплина, и распорядок, и распределение материальных благ, и подавление непокорных элементов в зоне.
Мы, священники, вынуждены вникать в это в силу определенных причин. Перед нами отворяются тюремные решетки. Мы входим в обители скорби и страдания. Существуют тюремные батюшки. У нас, например, в храме Всех Святых на Красносельской есть тюремный батюшка, который посещает "Матросскую Тишину". Это империя. Десятки тысяч людей. При всем желании не закупить столько крестиков и иконок, сколько они просят. Эта империя дает о себе знать, особенно под Пасху. Вот придут мироносицы, сердобольные женщины, принесут огромные корзины, мы будем складывать туда куличи и яйца, чтобы принести их за решетку и передать наше сердечное "Христос Воскресе" тем, кто находится там.
После этого краткого исторического экскурса перейдем непосредственно к теме лекции.
Безусловно, психология человека, оказавшегося в местах заключения, совершенно особенная. Опять-таки об этом лучше всего рассказал Александр Исаевич Солженицын. Помню, какое неизгладимое впечатление произвел на меня его роман "Раковый корпус". Мы читали еще его в самиздате, ночью, за рекордно короткий срок. Автобиографический роман, в котором писатель рассказывает, как после многих лет заключения, бесчеловечного режима, по сравнению с которым царская тюрьма кажется просто раем, он вышел на свежий воздух, больной, но свободный. И его оглушило раскинувшееся над головою небо, вместо какого-то маленького клочочка, расчерченного на квадраты. Он почти ослеп от взгляда на свежую листву. Она показалась ему изумрудной. И запах этой свежей листвы мгновенно опьянил человека, изголодавшегося по свободе. Он смотрел на лица людей, свободно фланирующих по улице, и не понимал, как они могут быть так равнодушны, индифферентны, не эмоциональны, когда он всеми фибрами, всеми клеточками души и тела всасывал и пил эту атмосферу свободы. А когда он зашел в магазин – а это был еще советский магазин, где имелось всего-то два-три наименования товара – и увидел, что люди еще и выбирают: мол, нет, это не подошло, покажите другое, – его просто прорвало негодованием – человек-то страстный, не церковный: "Сволочи, они еще недовольны, они еще выбирают. Да вас всех туда бы на пять лет. Вы бы поняли, что нужно брать то, что дают, и не искать ничего другого". Очень яркие страницы. Настоятельно советую прочитать всем. Чрезвычайно много они дают, чтобы мы оценили то, что имеем. Как гласит мудрая молитва: "Не мечтай о том, чего нет, но благодари Бога за то, что есть". Да, мы хотим сказать, что чувства заключенного обострены. Они как у ребенка, который смотрит на мир совершенно особым взором.
Я помню недавнее посещение зоны под Рязанью, где нас ждали верующие заключенные. У них там своя община, и они сами выстроили храм. Нужно было видеть глаза этих молодых и не очень молодых мужчин. Видеть, как они прикладывались к руке батюшки, как они сопровождали нас в храм, как взирали на священников, которые к ним приехали, дабы отслужить и вечерню, и литургию, причастить их Святых Христовых Таин. Помню, два иеромонаха исповедовали этих двадцать пять верующих мужчин, пока я предстоял Престолу, и совершенно по-особому все возгласы сами собою проговаривались, особенно такие, как: Мир вам, Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами.
Вместе с этой жадной открытостью ума и сердца заключенного, надо сказать и о его удивительном свойстве ценить всякую малость: один росчерк пера на открытке, одну какую-нибудь шоколадку посланную – для них это действительно Ноева голубица с масличной веточкой в клюве, возвещающая полноту Божией Благодати.
Говоря об этом изголодавшемся и измученном, не только телесно, но духовно человеке, еще не упустим из внимания вот что. Один батюшка, который совершенно невинно попал на зону и провел там год в очень тяжелых условиях, говорит: "Можно было бы сколько угодно там сидеть, если бы не одно: вытравление образа Божия в человеке. А может быть, и потеря человеческого образа в людях". Советская тюрьма (да и ее преемница – российская), как ее многократно описывали очевидцы, была горазда вытравлять нравственное начало в человеке, в том, кто не имеет в себе духовного стержня. Хотя все наши тезисы, конечно, не абсолютные. Многие скажут, что именно тюрьма помогла им найти Господа в своей жизни. Получая сегодня письма от пожизненно осужденных, которые пришли к Богу и к покаянию, мы понимаем, что на всяком месте можно благословлять Господа. Не место уродует человека, а человек место. И везде Бог внемлет нам. Но вот, действительно, нужно признаться, что сама эта жажда света, добра, любви, надежды на лучшее будущее подавляется, конечно же, властью тьмы, властью демонов над умами и сердцами людей. Да, есть, конечно, своя этика, свой кодекс чести в лагерях – но какие это страшные кодексы и какая страшная этика! Если человек нечаянно-негаданно нарушит те или иные неписаные тюремные законы, он может быть опущен и превращен в вечного козла, или петуха, который не имеет права даже есть вместе с прочими обитателями барака, который обречен на вечное помыкание, пинание, оскорбление. Он как бы перестает быть личностью в восприятии нормальных людей. Такой ужас, пожалуй, и во сне не приснится.
И, конечно, это царство мата, извращений, жестокости. Слабых, наверное, ломает, размазывает об стенку. Не случайно Солженицын остроумно перефразировал исправительно-трудовые учреждения в истребительно-трудовые. Несомненно, что эти лагеря были задуманы именно как мясорубка, в которой должны были измолоться в порошок, стереться в пух и прах нравственные качества русского народа.
Но в каком-то смысле лагеря выявили соль и свет нашей нации. Есть еще одна книга, написанная очень хорошим, но мало знакомым молодежи русским писателем Олегом Волковым, который как раз обладал удивительной нравственной силой, хотя и не был праведником, да он и себя таким не считал, но победил лагеря и остался личностью. Книга его называется "Погружение во тьму", читается на одном дыхании, потому что написана от первого лица обо всем том, что он сам испытал, попав в это горнило молодым человеком и оставаясь там вплоть до пожилых лет. Вся его жизнь прошла в лагере. И, конечно, такие книги нужно знать, дабы правильно воспринимать Россию и историю Отечества, и психологию заключенного.
Безусловно, зеки – народ проницательный. Их постоянная притирка друг к другу дает им безошибочное чутье. Они угадывают, кто казачок засланный, кто утка, подсаженная в камеру начальством, кто что за душой имеет. Они, как и дети, не терпят фальши. Но, в отличие от детей, они сразу же высказываются и по закону Архимеда эту пробку выталкивают из воды. Мне известны случаи, когда зеки не принимали священников, благословленных священноначалием для их окормления. Именно потому, что те не имели внутренней цельности. Сегодня легко назначить священников по полкам, по ротам, по батальонам, по взводам, закрепить за ними зоны. Но как по-разному складывается их служительская практика, потому что мало священнической благодати, нужна еще душа человеческая, которая является проводником этой благодати.
И вот оказывается, что, благоговея перед саном, зеки не всегда допускают до себя пастырей, а уж тем паче открывают перед ними свои души. Хотя большинство из них ждут хотя бы какого-нибудь батюшки, понимая, что не нужно смешивать человеческое и Божие. Однако мы знаем священников, с которыми зеки и едят, и спят, и пьют, и молятся, и трудятся. Такие батюшки-подвижники не перевелись на Святой Руси. Особенно есть иеромонахи, для которых зеки становятся детьми. Впрочем, и белое духовенство с любовью занимается этим делом, потому что там, в тюрьмах, несомненно, сокрыт Христос: в темнице был, и вы пришли ко Мне (Мф. 25, 36).
Говоря о психологии заключенного, будем еще иметь в виду ту тяжелую печать, которая незримым клеймом выжжена на его челе. Большей частью закон молотом бьет по голове повинной. Хотя, конечно, не будем отрицать, что сегодня в тюрьме может оказаться человек, не совершивший ничего дурного. Братья христиане, не попадайте, по возможности, в милицейские околотки. Знайте, что сегодня на милиционерах висят сотни нераскрытых дел, включая изнасилования, убийства, изуверства и прочее. Молодой человек, подвыпивший по дури и попавший в руки родной милиции, может оказаться обвинен в чем угодно. В том числе, в распространении наркотиков. Встав перед этой реальной угрозой, родители будут готовы заплатить любые деньги, лишь бы вызволить ребенка, снять его с этой статьи. Не говорю о мамах, приходящих к батюшкам в храмы и рассказывающих, как ребенку навесили убийства, грабежи и прочее. Сегодня, действительно, в пенитенциарной системе никаких прав нет.
К сожалению, часто все-таки дыма без огня не бывает. И многие юноши попадают в эту систему, стоя в стороне и наблюдая за тем, как происходило преступление, но не участвуя в нем. Ах, воистину, береженого Бог бережет. С кем поведешься, от того и наберешься. На Бога надейся, сам же не плошай.
Посещая тюрьмы и зоны, как правило, все-таки видишь: на человеке лежит печать совершенного злодеяния. Эти лица совершенно иные, чем лица ваших друзей и знакомых на воле. Редко там увидишь вообще здоровый цвет лица. И это объясняется, в том числе, дурным содержанием, духотой. Сейчас нет государя императора Александра III, который как-то, путешествуя по Сибири, посетил тобольскую тюрьму и, увидев, что зекам душновато, велел поднять потолки до трех метров. Сейчас в этой тюрьме располагается прекрасная благоустроенная Тобольская духовная семинария. Я был приглашен туда и удивился: "В каких роскошных условиях вы живете, дорогие студенты. Какой метраж! Кто вам это построил?" Они говорят: "Александр Третий для заключенных своей империи это построил".
Кстати, путешествуя по этой тюрьме, государь император выслушивал ламентации, то есть жалобные причитания зеков, и каждый из них говорил, что он осужден несправедливо, что закон был слишком строг к нему. И, по преданию, нашелся в той тюрьме единственный заключенный, который на вопрос царя о том, какие он имеет пожелания, ответил: "Ваше Величество, я премного всем доволен". – "Ну, может, есть какие-то жалобы?" – "Нет у меня решительно никаких жалоб". – "В конце концов, может быть, хотите воспользоваться монаршей милостью быть помилованным?" – "Нет, я сижу совершенно законно. Признаю для себя маленьким то определение, которое вынес обо мне суд". Вот этого-то заключенного царь помиловал и освободил, пользуясь правом государя казнить и миловать поверх всех законов.
Так вот, общаясь с заключенными, видно, что в их душу глубоко вошла, будто каленым железом выжженная, печать прикосновения к миру преступлений. Ну, может быть, это не во всяких местах заключения. Я был в колонии особого режима и видел, что даже на юных, восемнадцати и двадцатилетних верующих ребятах все-таки лежит это нечто. Это нечто, как и само пребывание в тюрьме, безусловно, изживается не сразу. Мы, священники, знаем, что человек, вышедший из тюрьмы, редко когда может выдержать искушение волей. Трудно ему войти в ту жизнь, в которой мы с вами плаваем, как утки в деревенском пруду. Тюрьма – это тоже своеобразный мир, своеобразный наркотик, который пытается вновь захватить освободившегося человека в свои объятия. Тот, кто прошел тюрьму, часто борим в течение всей жизни. Сердце его раздваивается. Совесть свидетельствует ему об одном, а условности мира, трудности обустройства на воле влекут его в другую сторону.
Конечно, общаясь с заключенными, мы понимаем, что они причастны к отрицательному жизненному опыту. И в этом смысле имеют более глубокий опыт, чем наш. Заключенному не скажешь красивые, но отвлеченные слова. Его не будешь поучать и назидать, потому что он часто прекрасно ориентируется даже в духовных предметах. Интересный феномен: из зоны пишутся письма каллиграфическим почерком. Видимо, у осужденных образуется время, чтобы исправить то, что не додала школа. Зековские письма просто можно класть под стекло. Многие зеки выражаются весьма изящно в литературном плане. Там, надо сказать, все таланты, полученные на воле, могут быть отшлифованы.
Конечно, когда мы общаемся с этой аудиторией, то, прежде всего, должны вооружиться великой теплотой, сердечностью, искренностью, приветливостью, благожелательством. Должны не столько говорить, сколько дышать миром и любовью к ним. Заключенные похожи на растения, которые из горшочков вылезли, но в силу скудости освещения остались чахлыми и бледными. Оживить их может только энергия чистой совести, мира, радости и любви, которою помазано Слово Божие.
Конечно же, трудно приходится человеку, замкнутому в четырех стенах, вынужденному общаться с тремя-четырьмя товарищами по несчастью, питающемуся однообразной пищей, делающему ограниченное число шагов. Ну, это я огрубляю, конечно. В зонах можно теперь и в футбол играть, и телевизор смотреть. Но все-таки, говоря с заключенными о духовных вопросах, конечно, нужно опираться на собственный малый опыт, говорить о Царствии Божием, внутри нас сокрытом. Заключенный, между прочим, весьма похож на пещерника, на столпника. Ограниченный затвором, он имеет прекрасную возможность изучать самого себя и отслеживать движения собственной души, вникать в помыслы, изучать страсти.
Конечно, сколько заключенных, столько и состояний, и положений. Вспомним, что в современной следственной тюрьме, в какой-нибудь Бутырке, в камере, рассчитанной на десятерых, сидит порой сто двадцать человек. На трехэтажных нарах спят по очереди. Время от времени мамы, приходя в храм, рассказывают нам, в каком переплете оказываются их милые дети, не отдавшие вовремя кредит или запутавшиеся в дурной истории, какие нечеловеческие, зверские, просто фашистские условия существуют в "бутырках", какие ужасы выпадают на долю бедных сопливых юношей, какую школу они там проходят. Дай Бог им вылезти оттуда не с отбитой печенью и опущенными почками.
И вот, находясь в таком аду, дай Бог верующему сердцу познать иной мир, к которому не может прикоснуться завистливое око или грязная рука – сокровенный мир души. "Душа моя – элизиум теней", – говорил Федор Тютчев. Действительно, есть в православии область аскетики, наука из наук, художество из художеств – слово о молитве. О молитве внимательной, молитве сокрушенной, молитве непрестанной. Об этой молитве так убедительно и просто говорят оптинские старцы, особенно два отца Анатолия, старший и младший. Последний писал о молитве Иисусовой. Да все оптинские старцы были великими делателями молитвы, тот же преподобный Варсанофий Оптинский. Заключенным, находящимся в затхлом, вонючем пространстве, действительно хочется быть свободными, как птица, воспарить, как белая чайка над взморьем. Предстоять Живому Богу пред Его Престолом тогда, когда вокруг свершаются всяческие непотребства, о которых и говорить-то в приличном обществе невозможно.
Вот слово о молитве всего более утешительно для них. Как лестница духовного восхождения к Богу. Не скроем, сегодня в подавляющем большинстве писем, получаемых из лагерных зон и тюрем, содержится достаточно однообразный набор просьб, начиная с хозяйственного мыла и кончая перечнем лекарств. И те, кто берется за переписку с заключенными, должны понимать свою ограниченность и не брать на себя слишком много. Сейчас в Богословском университете, надо сказать, накоплен большой опыт в этом направлении, есть даже курсы для тех, кто вступает в эпистолярный способ общения с осужденными. А если за дело берется лицо женского пола, то здесь случай особый. Нужно понимать, что значит женский почерк для сидящего двенадцать лет в мужской колонии. Некоторые особы, не задумываясь, присылают свою фотографию, делать этого нельзя. А на просьбу описать словесный портрет, ответьте – потом в обмане покаетесь, – что у вас нет одного глаза, нижняя губа оттопырена, зубы приказали долго жить, глаза мутные, ничего не выражающий взгляд, характер такой, что и животные не выдерживают. Действительно, зеки влюбляются в женского корреспондента, едва лишь увидят штемпель письма. Имейте в виду, что, когда приблизится конец их пребывания на зоне, они вам напишут: "Дорогая Шура, все бросил, еду к тебе". Будьте готовы, если одновременно трое приедут и позвонят в квартиру вашей мамы. Нет, это дело очень непростое. И поэтому, скажем, наши корреспонденты получают письма на адрес храма. Нужно соблюдать особые условия, общаясь с заключенными.
А все-таки это живые, трепетные сердца. Это человеческие души, у которых можно учиться покаянию. Переосмысление жизни иногда наступает не сразу. Но когда наступает – вы это понимаете, читая их признания, их исповеди.
Мне до сих пор памятен рассказ одного старого лагерника, изведавшего все "прелести" уголовного мира и уже в среднем пожилом возрасте пришедшего к вере. Он был крещен с детства, но не просвещен в церковных вопросах. И вот однажды его посетил Божественный свет. Он рассказывал, как почти что до вечера пребывал в сиянии Благодати Божией. Господь просветил его душу и даровал ему ни с чем не сравнимое блаженство. Он беседовал с Богом, как дитя, зрел Его Незримого, превратился, так сказать, в ученика Симеона Нового Богослова. Этот человек, который толком никогда и не причащался и не исповедовался, совершенно переродился в мыслях. Потом его оставило это райское состояние. И он стал бороться с трудностями жизни на воле, испытывая искушение вновь быть затянутым в уголовный мир. Но успешно этому сопротивлялся, даже до сих пор. Потом он вновь познал силу дурных привычек. Но то, как призвал его Господь, можно сказать, пригласив его на Фавор и дав созерцать Свой Божественный Свет, этого он забыть не может.
Конечно, сколько людей, столько и судеб. Мы, священники, храним в своем реестре, в своей сердечной библиотеке много интересных историй, которые порой и нас самих многому учат.
В заключение расскажу вам историю. Один зек, очень скромный, освободился и приехал к нам на приход. Подошел к настоятелю, ко мне то есть, и говорит: "Батюшка, я вам писал письма, вы мне отвечали на них, спаси вас, Господи. Вы получили извещение о том, что я приеду? Я приехал". Ну не станешь же обижать человека. Ничего я не получал, ничего не помню, никаких извещений не видел. Много с кем мы в переписке состоим, всех не перечтешь. Но ничего этого я, конечно, вслух не сказал. "Я рад, – говорю, – что вы прибыли. Дай Бог вам здоровья, какие ваши планы? Покормить, наверное, вас неплохо". – "Да не откажусь". – "Хорошо, вот вам приходской талончик, покушайте. А потом мы с вами поговорим". – "Нет, батюшка, я уж сразу. Еда – дело второстепенное. Не хлебом единым жив человек. (Они хорошие богословы.) Батюшка, – продолжает он, – я еду сейчас в такую-то епархию и в скором времени буду рукополагаться. У меня уже есть устное благословение епископа". "Ну что же, если так обстоят дела – хорошо". (Но на самом деле человек, побывавший в зоне, вряд ли может получить рукоположение. Есть к тому каноническое препятствие. Будучи осужден внешним законом, он уже не имеет должного авторитета как будущий священнослужитель. Должен быть человек с безупречной биографией. Раньше даже актеров и танцовщиков не пускали в батюшки).
"Вы знаете, батюшка, – говорит он мне, – у меня и сны были соответствующие". – "Интересно". – "Вот, я вам только три сна расскажу". Я приготовился терпеливо слушать. "Первый сон был такой. Еще я находился в местах не столь отдаленных. Приснился мне преподобный отец наш Сергий Радонежский. Смотрел он на меня с великой любовью, как монах на отрока Варфоломея с картины Нестерова. И говорит: "Ваня, будешь ты священником, и приход у тебя будет богатый". Говорю ему: "Да, Преподобный Сергий действительно милостив к вам, даже благосостояние вашего прихода определил своим словом". – "Батюшка, вы слушайте, что дальше было. Через месяц снится мне следующий сон. Является мне в нем преподобный отец наш Серафимушка…" Так он как-то очень ласково и немножко запанибратски назвал преподобного Серафима. Святой в не менее восторженных тонах рассказал этому Ване о том, какой у него будет приход, после чего тот уверился, что надо уже с епископом договариваться, куда же можно будет его послать. "А вот перед приездом к вам, отец Артемий, – продолжал тем временем гость, – приснился мне весь Собор наших новомучеников и исповедников Российских. Выступил вперед патриарх Тихон и сказал: "Поезжай к отцу Артемию, расскажи ему о своих снах и попроси обеспечить тебя на дорогу к епископу всеми необходимыми средствами для священнического служения, но только сам пока пусть ничего не покупает, просто передаст деньгами. Он не посмеет нас ослушаться, ибо мы предстоим Божьему Престолу и молим Господа за всю нашу Русскую землю. Вот я перед вами, батюшка", – и стоит передо мною с невинным видом, и лицо у него прямо как у семинариста: бородка, симпатичный раздвоенный пробор, кудри, выражение благостное.
Выслушав этот третий сон, говорю ему: "Либо ты, брат Иван, в великой прелести находишься, либо плут несусветный". Может быть, и не так строго я ему сказал, но примерно так. Совесть моя была чиста, потому что мы его накормили. Зеков озлоблять нельзя, они и без того "обижены судьбой". Если можешь, покорми, дай немножко денег и отпусти с миром.
Да, глубок человек. Но и мы должны понимать и выводить на чистую воду подобных "художников слова".
Главное: все жаждут любви, Божией и человеческой. Любовь, бескорыстное сострадание, сердечное милование ближнего – вот "товар", подлинность и качество которого распознаются сразу, а заключенные – люди проницательнейшие. Остается молиться и трудиться над собой, дабы сочувствие, как и благодать, снисходящая свыше, всегда обитали в сердцах.
Ранее мы разбирали характер общения в различных аудиториях и особенности восприятия слова слушателями в зависимости от их возраста, сословной принадлежности и прочих факторов. Перед нашим мысленным взором прошли дети, подростки, старшеклассники, пенсионеры, военные, прикованные к одру болящие и умирающие. А теперь обобщим и выделим основное, для чего составим краткие тезисы, которые нам помогут весь этот материал усвоить. И оформим их в виде ненавязчивых назиданий, правил, обращенных к нам самим как проповедникам, лекторам, катехизаторам, призванным найти контакт с аудиторией. Причем тезисы эти относятся к области не только риторики, но и этики, потому что в нашем с вами подходе трудно совершенно отделить слово от сердца, носящего это слово.
1. Старайся быть простым, теплым и искренним. Впрочем, этот тезис подходит для всех категорий слушателей, потому что мы все как дети перед Богом. Но все-таки старайся быть простым, теплым по сердцу и искренним, не допуская ни малейшей фальши в интонации, стиле, слоге. Ясное дело, что фальшь в интонации есть прежде того фальшь в чувствах, настроениях, убеждениях. Не допускай строжничанья, это тоже своего рода фальшь. Потому что к себе мы бываем снисходительны, а тут напускаем вид Серого Волка: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Не допускай и сюсюканья, этакой приторной сладости с обилием уменьшительных суффиксов, где надо и не надо. Сюда же, между прочим, относится ложная патетика. То есть такое воодушевление, как будто человек лишку хватил: начинает тормошить детей, наскакивать на них, плясать перед ними.
2. Помни, что сердца детей чисты и нежны, впечатлительны. На них все отпечатывается, как на мягком воске, а потому бойся оскорбить их слух хотя бы одним неподобающим словом или выражением грубым, пошлым, страшным.
Но что имеется в виду под "страшным словом"? Если иные проповедники умудряются нагнать тоску и безнадежность на взрослую аудиторию, то что говорить о детях, когда вы им всякие невеселые непонятки рассказываете. Ребенок естественно верит в победу добра над злом, для него Боженька всех сильнее, и всех умнее, и всех добрее, Он все может. И ему не понять, как это – "мнимое и временное торжество господствующего на земле зла"? Поэтому детей и хранят от этаких словес. Да и взрослым дозировать надо рассказы о том, как министры проворовались, а золотой запас в очередной раз вывезли в Америку. Например, мне жаловались, что в некоторых воскресных школах катехизаторы детям-подросткам про ИНН рассказывают. Вряд ли такое стоит обрушивать на детские умы.
3. Дети, даже при всем желании, не воспринимают абстрактных рассуждений и отвлеченных от земной конкретики понятий. Вспомним, что Спаситель наш всегда говорил с людьми ясно, просто, каждое Его слово было облечено в образ, притчу и хорошо запоминалось.
Дети не воспринимают сентенций и нравоучительности. Общаться с ними академическим языком – педагогический грех, от которого они становятся равнодушными, унылыми, непослушными. Кстати, не все люди созданы для общения с детьми, не все педагоги могут заниматься с маленькими. Возможно, они и люди, и профессионалы хорошие, и на Доске почета висят, только к детям их нельзя пускать.
4. Лучший друг проповедника – словесный художественный образ и живописание словом. Речь идет об особом умении и искусстве рассказывать, описывать события, о мастерском владении художественным словом.
5. Опытный педагог в общении с детьми будет достигать объемности речи, то есть включать в нее все стили – и высокий, и разговорный, и художественный, конечно, в подобающих рамках, а также все жанры – и рассказ, и беседу, и притчу, хорошо зная, что их смена освежает восприятие и доставляет отдых ребенку. Основная ошибка иного проповедника – монотонность: как заладит дуду, и пока дети не уснут, не остановится.
Будь опытным диагностом и постарайся выявить все нравственные недуги или болезни аудитории, иначе будешь бить мимо цели. А нужно, чтобы твое слово задевало, касалось сердец, не оставляло равнодушным, привлекало внимание. Тут и доносами не грех пользоваться.
У меня был такой случай в старших классах. Подходит учительница, говорит: "Отец Артемий, довожу до вашего сведения, что в начале этой недели я попыталась на перемене войти в аудиторию к старшеклассникам, но дверь была заперта, там сидели юноша М. и девушка Н. И сколько мы не пытались туда пробиться – минут 12-15, может быть, меньше, – они не открывали".
Тут я, просто как петух боевой, как конь удалой, ворвался в аудиторию. Думаю: докатились! Сепаратные переговоры. Разошелся, что Илья Муромец в борьбе с погаными. Да еще девушка какую-то майку натягивает, а там у нее ничего нет, кроме торчащего пупка. В общем, я разгорячился. Гром был страшный, молнии, град величиной с желудь. Хотя, конечно, и старался смягчить удар. Говорю: "Да как же милый наш юноша мог вот запереть так дверь? Это же неуважение к той, которую он именует своей девушкой. Как же при хорошем к ней отношении решиться на такое! Это ведь бросает тень на нее, и на дом отца ее, и на предков до седьмого колена!" На перемене вижу, он стоит – прическа, как у Страшилы, один вихор короче, другой длиннее, лохмы торчат в разные стороны. Я не знаю, как мама это терпит, а может, и сделать ничего не может. Хотя мальчик из хорошей семьи – интеллигентный папа, мама на всю Россию известна своими книгами по воспитанию трудных подростков, прекрасная православная писательница. Книжку написала – "Чтобы ребенок не был трудным". "Отец Артемий, – обращается ко мне этот лохмач, – можно поговорить?" Я ему: "Пожалуйста, милый, давай отойдем". – "Батюшка, мне кажется, вас дезинформировали, вы что-то не поняли". – "Я рад был бы ошибиться! Я ждал от тебя именно этого слова. Что же именно я не понял?" – "Мы там решали задачи по химии". Я говорю: "Наконец-то я услышал это слово! Как я рад, что ты вывел меня из состояния отчаяния. А почему заперлись?" – "Чтобы не мешали дети из четвертого класса". – "А почему не открыли учительнице?" – "Мы чуть-чуть промедлили". В общем, он сказал какие-то обтекаемые фразы, которые дали мне возможность надеяться на лучшее. "Но ты понимаешь, что это дает повод ищущим повода? Что это, мягко скажем, политическая ошибка?" – "Да, понимаю".
Жизнь представляется подросткам драмой, столкновением, конфликтом. Если бы подростка спросили, какое самое лучшее определение жизни он знает, то, отринув определение Фридриха Энгельса – слишком блеклое, вялое, более годное для пенсионеров: жизнь есть способ существования белковых тел, – многие бы выбрали формулировку одного из законов диалектики: жизнь – это единство и борьба противоположностей. Но подростки наши весьма близки к восприятию жизни в этом драматизме, конфликте. А значит, и наше слово к ним должно быть драматично, сюжетно, напряженно, бодро, динамично.
Необходимо высмеять порок, уже стучащийся в душу подростков, увлечь их рассказом о победе добра над злом, дабы вызвать их сочувствие. В этой аудитории оно еще может быть вызвано, у старшеклассников уже иначе.
Очень важен метод профилактики, то есть предупреждения болезней. И прежде всего, страсти блуда и гнева. Речь идет об агрессии подростков и возникающем все больше интересе к лицам другого пола, который, к сожалению, облекается в формы, часто противоположные нравственности. Наверное, нужно обязательно говорить в этом возрасте о девстве и целомудрии как основе личности человека.
Главное оружие проповедника – его нелицемерное благочестие, как состояние сердца, конечно, а не сумма благочестивых действий внешних, а также искренность и горячность веры. Конечно, вы должны быть магнитом, а они тогда-то и будут не опилками, а железной стружкой, которая потянется к вам. Тут сухого интеллектуализма недостанет, тут должны быть, действительно, молитвенные труды положены, чтобы силу духа обрести, а значит, и свободу в обращении к слушателям.
Должно избегать в словесном общении дидактики, то есть откровенного назидания и морализма – они будут бить мимо цели. Для современных просвещенных юнцов это не лекарство.
В общении с ними потребно великодушие (чтобы не смотреть на них как на врагов, ожидая подвоха). И, если можно, радость. Но только не та, которая от наркотиков, а внутренняя, глубинная духовная радость бытия. Великодушие, радость, ум. С кокосовым орехом вместо головы не приходите к ним. И умение держать внимание аудитории. Умение из книг не вычитывается, достигается опытно и не сразу.
Тема любви будет козырем педагога, если он введет ее в русло высоких нравственных понятий. Но лучше не прикасаться к этой теме человеку, презирающему целомудрие. Целомудрие – это всеобъемлющее понятие. Это состояние сердца не только монашествующего, но и мирянина, православного супруга, который самоотверженно служит своей семье, исполнят свой супружеский долг, преследуя славу Божию, а не своекорыстные греховные интересы.
Расскажу вам маленький эпизод для доказательства этого тезиса. Молодым священником я был приглашен в качестве то ли цензора, то ли консультанта в Театр на Таганке, дабы поучаствовать в прогоне "Маленьких трагедий" Пушкина в постановке Любимова, только что вернувшегося в Россию после вынужденного пребывания за границей. У меня в памяти хорошо запечатлелась одна из этих трагедий, "Каменный гость". Сцена, когда на могиле мужа донна Анна встречается с доном Гуаном. По Пушкину, донна Анна – целомудренная вдовица, которая безутешно оплакивает смерть своего супруга и, надо же случиться такому искушению, подпадает под обаяние развращенного дона Гуана. Одна знаменитая актриса, прима Таганки, играла донну Анну, но играла так, что зрителю становилось ясно: не дон Гуан соблазняет Анну, а донна Анна нападает на этого невинного барашка и, страшно сказать, на костях мужа флиртует, искушая невинность дона Гуана. Ах, гиблое дело – изображать целомудренную натуру человеку, который сам вкусил горького отравленного напитка, плотски умудрен, не дай Бог, развращен. Поэтому, конечно, лучше даже и не дерзать говорить со старшеклассниками о высокой, настоящей любви, коль скоро твоя жизнь находится в прямом противоречии с провозглашаемыми тобою идеалами. Не поверят. Дети скажут, как говорил актерам гениальный режиссер Станиславский: "не верю, не верю". Чтобы не было такого фиаско, лучше беседовать о политике.
Не должно пренебрегать библейскими сюжетами, касающимися плотской, земной, высокой жертвенной любви, потому что эти сюжеты суть подлинное сокровище в деле назидания и воспитания молодежи.
В качестве комментария нужно сказать, что и к библейским сюжетам страшно приступать. Потому что в этом деле важно войти в единый дух с повествованием, дабы не умалить, не исказить, не засушить эти сюжеты, но донести их вечный смысл и веяние Божией благодати до современного слушателя. То есть, нужно уметь адаптировать, приспосабливать эти сюжеты, пересказывать их так, чтобы слушать было интересно и увлекательно. Думаю, что это дается только опытом, кропотливой практической работой словесного общения с аудиторией.
Педагог, работающий с юношеской аудиторией, должен быть сверхделикатен и очень осторожен в своих беседах о любви и целомудрии. Потому что этот предмет весьма болезненный для многих и многих слушателей. Объясню, что я имею в виду.
Представьте себе, к вам, еще молодому священнику, подходит писаная красавица, коса до пояса, лицо ангельское. Если бы не обводочки вокруг глаз, говорящие о некоторой "умудренности" и отсутствии подлинного вкуса. "Батюшка, вы мне нужны. Только я хотела поговорить не при всех". – "Хорошо, давайте отойдем за колонну". – "Батюшка, у меня к вам почти риторический вопрос. Я до двадцати четырех лет берегла свое девство. Учусь в ГИТИСе. И вижу, что творится вокруг меня, какой бардак, какой, простите, бордель". – "Ну что же, похвально, что вы имели и ум, и совесть, дабы отстоять свое право на то, чтобы быть белой лебедью". – "Но, в конце концов, батюшка, меня достали когтистые лапы сорок восьмого претендента". – "Это ваш муж?" – "О, если бы муж. Но нет, это был не муж. Я к вам обращаюсь с вопросом: почему другим позволено с семнадцати лет вести неизвестно какой образ жизни без всяких последствий – сейчас они уже и замуж вышли, и детей родили, – а мне одного раза было достаточно, чтобы заразиться неизлечимой болезнью, от которой я безуспешно лечусь уже седьмой год, прогресса нет?"
За таким рассказом стоит целая жизненная драма. Поэтому в наших воззваниях к молодежи нужно быть очень деликатным, очень хорошо знать жизнь, чтобы никого не ввергнуть в уныние, в отчаяние, но действовать точным инструментом нейрохирурга. С опытом, конечно, это приходит. Вчера мне пришлось в далекой от нас чувашской школе города Алатыря, за многие сотни километров от Москвы находящегося, проводить урок со старшеклассниками. Кстати, тамошняя молодежь порядком отличается от московской в лучшую сторону. В старшеклассниках так много еще детского, они реагируют на слово священника так, как у нас в пятом-шестом классе, то есть очень живо. Дети менее утомлены жизнью. Им в большинстве своем не довелось испытать "слишком раннюю усталость". И вот, беседуя об этом болезненном предмете – целомудрии и желая детей как-то ориентировать, развернуть в нужную сторону, я по ходу рассказа говорю: "Вы мне разрешите, дорогие друзья, воспользоваться теми методами, которые под рукой только у православного священника. Ни экстрасенсы, ни йоги – никто этого не знает, да и не дерзает на это, только мы. Вот у меня есть такая подзорная труба, с помощью которой я сейчас хотел бы увидеть эти светлые звездочки, эти чистые, девственные натуры, которые всем смертям назло, всем вихрям враждебным вопреки сохранили свою лебединую чистоту до десятого класса. Вы мне разрешаете провести этот эксперимент и эту подзорную трубу вытащить на свет Божий?" Они говорят: "Да". И педагоги поддерживают: "Если вы считаете, что это нужно, вынимайте". – "Но только для этого мне придется на сцену подняться, потому что нужен обзор". Говорят: "Батюшка, хоть на люстру". И вот я свою трубу вынимаю – полная тишина. Сидит двести пятьдесят человек, тишина, муха пролетит – услышишь. Ах, вот она, гори, гори, моя звезда, звезда пленительного счастья. Говорю: "Вон она, в правой половине нашего собрания сидит и сияет эта чистая звезда. Смотрите на нее". Они все оборачиваются: "Насть, ты что ль?" "Ну-ка, – продолжаю, – а что у нас в левой половине? Ничего не пойму. А, вот она и здесь сияет, смотрите, смотрите все. Это, действительно, сокровище!" Но сами-то вы смотрите куда? Не фиксируйте ни на ком взора. Вот такой эксперимент. Действительно, кому есть чему радоваться, они как бы крылья расправляют. Я говорю: "Но не отчаивайтесь, дорогие друзья, если моя труба не зафиксировала в вас сокровище. Но выход есть. Слава Богу, еще существуют на белом свете священники. Придите на исповедь, расскажите о том, что было, что неправильное сделали. Бог все простит и возвратит вам эти крылья. Все управится. Знай только иди и более не греши. Хотя, конечно, сияние ослепительное".
Представьте себе, что если бы вместо этого тонкого психологического приема, вполне индивидуального (конечно, подражать топорно невозможно, у каждого свой стиль общения с молодежью), нашелся бы батюшка, который бы сказал: "Целомудрие прекрасно, девство – это нравственный потенциал нашей Родины. Кто его сохранил, прошу встать. Сядьте, а теперь встаньте те, кто не сохранил". Это было бы, конечно, преступление не только риторического характера, но этического. Так можно нанести тяжелые психологические раны, даже вызвать жесткое противление. К сожалению, подобное встречается, когда не хватает чутья, такта, любви, нравственного чувства. Мы должны ощущать эту грань, тончайшие акценты и такие вехи, которые преступать не должно.
7. Быть может, самое главное в этом разговоре – оставить надежду на лучшее будущее. В том смысле, чтобы никто не отчаялся, не приуныл, не сказал бы: "Все, батюшка, песенка спета. Поздно. Я и рад бы в рай, да грехи не пускают". И действительно, многие люди, даже не особо религиозные, имеют такое тяжелое сознание давящих на них согрешений; сам цинизм этой жизни вытравляет в разочарованном поколении все идеалы, светлые мечты, чаяния. И задача священника и всякого проповедующего как раз пролить свет надежды. Прекрасна в связи с этой мыслью цитата из Священного Писания, из Книги Царств: Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного (2 Царств, 14, 14). То есть Свои действия, усилия Бог обращает на нас, помышляя о том, чтобы не отвергнуть и отверженного, или, как говорит Господь: Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее (Лк.,19,10). В этой связи, наверное, немало церковных проповедников делают страшную ошибку: акцентируя речь на мрачных и обличительных моментах и мыслях, они оставляют чувство безнадежности, настолько перенасыщают речь негативом, которого и без того предостаточно, что у людей не остается надежды. А этого делать нельзя. Если не священник, то кто же даст утешение, покажет свет в конце туннеля? Я думаю, что духовное слово имеет своей задачей не столько сделать хирургический разрез, сколько срастить, утешить, укрепить. Жизнь-то все-таки продолжается.
Прежде всего, наше слово должно дышать нелицемерным почтением к возрасту аудитории. Уважение к старшим и их жизненному опыту – это общечеловеческое качество. Может быть, они и не праведники, может быть, даже и великие грешники, но жизнь – хороший учитель. Человек умудрен самой совокупностью падений и ошибок, им совершенных. Почему мы и говорим об уважении к жизненному опыту. А особенно к скорбям и страданиям старшего поколения, прошедшего через огонь войны, трудности восстановления разрушенного хозяйства. Может, кто сам и не воевал, но хлебнул горя, как моя мама, картофельными очистками питавшаяся вместе с двумя малолетними сестричками в голодные времена. Да у каждого есть что вспомнить в семейных преданиях.
2. Общаться с пожилыми людьми очень интересно. Интереснее, чем с определенной частью молодежи – например, бритоголовыми. Потому что старики – свидетели ушедших эпох жизни Отечества. Одно дело читать о коллективизации и продразверстке, а другое дело – услышать от того, кто сам это пережил. Например, рассказ пожилой женщины о том, как ее маленьким ребенком на телегу посадили с братьями и сестричками и куда-то повезли. А другую, тотчас по раскулачивании – то есть, по изъятии медного чайника и кошки Мурки в пользу комитета крестьянской бедноты, в ветхой одежонке погнали вслед за мамой куда-то в северные края.
Сейчас вышла интереснейшая книга Павла Проценко "Цветочница Марфа" 34. Это документальная повесть о жизни русской крестьянки Марфы Ивановны Кондратьевой из Подмосковья, сумевшей пронести веру в Бога через всю жизнь. Она испытала и нечеловеческие условия деревенского быта 20-х – 30-х годов, мытарства коллективизации, вырастила семерых детей. Будучи церковной старостой, отстояла два храма, а закончила жизнь в концентрационных лагерях, куда попала по ложному доносу. Книга рельефно вскрывает ткань времен, это не литературный вымысел, а на огромном фактическом материале написанное высокохудожественное произведение.
Так же интересны реальные судьбы наших стариков. Тех, кого мы видим каждый день и не задумываемся о том, что судьба каждого – такая же непостижимая книга. Вот у нас в богадельне есть такие старушки – девяносто пять лет, силы-то мало осталось, а ум светлый. Вот, Феодосия Ивановна – слышит плохо, но мыслит ясно. Или матушка Анания – слепенькая, жалуется, что никто ее не гонит, никто не травит, наоборот: кормят, никаких нет неприятностей. "Погибаю, – говорит, – батюшка. А вот молодая была – мне и палец в двери защемят, и запрут в туалете, и ведьмой назовут соседи; вот это была, батюшка, жизнь". Человек не рисуется, а действительно скорбит, что он живет у Христа за пазухой. К ней вы входите в келью (она монахиня уже была) – у нее там совершенно пусто, она не терпит лишних предметов. Один предмет в ее келье привлекает внимание всех, кому посчастливится зайти, – четки на тысячу шариков, ей их сплели специально. И она их перебирает. "Ой, батюшка, особо никто меня не ругает, не гонит, уж не знаю, как спастись". Привык человек к жизни в форс-мажорных обстоятельствах коммунального рая хрущевской эпохи. Придешь, бывало, смотришь – ее нет. Зовешь – никакого ответа. А это она нашла себе место между стульчиком и кафельной стенкой и устроилась там, потому что считает, что ей спать на кровати не спасительно. Вот такая матушка. Как же с ней может быть не интересно? Очень даже интересно.
3. Для того чтобы добраться до сердца пожилого человека, нужно возвратить его ум в страну его священных воспоминаний. А у каждого своя святыня. Для одного это может быть день Победы на Красной площади, когда вы ему расскажете, что день-то Победы пришелся не на девятое мая, а на шестое – на день Георгия Победоносца, именно в тот день капитулировала Германия. И началась-то война в день Всех Святых, в земле Российской просиявших – двадцать второго июня сорок первого года. Вы понимаете, дорогая Пульхерия Ивановна, Боженька довел наш народ до Победы. Расскажите, пожалуйста, о том, что Вы помните, если можно. И скажет, как она двадцатипятилетней радисткой в военной форме с курчавыми, пышными каштановыми волосами, в пилотке со звездою, увидела салют Победы. Как каждого военного, который тогда оказался на Красной площади, народ подбрасывал в воздух. Моя теща это помнит, ей сейчас семьдесят шесть лет. Представьте себе, вот, подбрасывали в воздух, но и ловили, конечно, да, вот. Да ей после этого только споешь своим слабым голоском какой-нибудь "Синий платочек", она прямо скажет: "Батюшка, давай теперь каяться в грехах. Хочу выплакать всю душу".
Вот такую власть имеют священные воспоминания.
А для другого это, может быть, воспоминания, как маленькими детьми их одевали в белые платьица и нарядные костюмчики, как им в церкви батюшка что-то сладенькое давал – и уж какое это было сладенькое! "Знаете, дорогая Клавдия Петровна, – скажешь ей, – это было не "что", а Кто: это был Боженька. Это было причастие. Вот и я вам принес Боженьку, дароносицу священническую. Вот вам сладенькое". – "А что ж, я готова". – "А в грехах каяться?" – "Готова". И пошло-поехало дело.
4. Нужно также иметь в виду инерцию ума пожилого человека. То есть отсутствие гибкости. Свежее впечатление пришло к восьмидесятилетней бабушке, но из этого вовсе не следует, что через пятнадцать минут она готова будет расписаться под своим желанием исповедоваться первый раз. Настолько уже закостеневший ум, навыки, мироощущение, что вашей проповеднической мотыжкой разрыхленная почва мгновенно зарастает бурьяном. Если сегодня вы добились того, что бабушка вместе с вами записала грехи на бумажке, то на следующий день перед приходом священника она может заявить, что под диван от него спрячется. "Бабушка, в ваши годы – под диван?! Да там и щель узкая, куда вам с вашими размерами". – "А вот сейчас залезу". И залезет ведь, если опять не увести ее в страну священных воспоминаний: "Бабушка, вы помните, как на клиросе в белом платьице стояли, когда вам было шесть лет?" – "Помню". – "И что ж там было?" – "А там был такой батюшка, как ангел. И он нам выносил что-то сладенькое". – "И сейчас он придет. Вот, давайте, давайте". И на десять минут это райское состояние. А потом опять под диван. Я думаю, что все, кто с пожилыми людьми общается, должны знать за ними это свойство. А когда на них смотришь, это очень полезно. Нужно молиться: "Господи, не остави мене, внегда оскудевати крепости моей, не отрини мене. Яко исчезоша яко дым дние мои, и кости моя яко сушило сосхошася… Дние мои яко сень уклонишася, и аз яко сено изсхох. Неужели я буду таким же тюфяком? Господи помилуй. Неужели буду таким же дитятей? Да неужели это так со мною будет?" А вот, молодежь, молиться надо. Без молитвы ум действительно коснеет.
5. Слово, обращенное к старикам, должно быть не только сердечным, но и простым, насыщенным народной и церковной мудростью. Чем больше к месту вы хороших пословиц подберете, тем лучше, потому что эти пословицы суть квинтэссенция русской души. Если вам еще дано сердце, чтобы эти пословицы произносить. "Да, Марья Ивановна, старость не радость". – "Ох, не радость, родимый". Прямо так с ними и общаться, фразеологическими оборотами. Но главное, конечно, тут не лексика, а душа ваша, искренно симпатизирующая, внимающая, жалеющая, сочувствующая собеседнику.
Сегодня мы побеседуем о технической стороне речи. О том, что не относится прямо к духовности слова и не подразумевает какого-то определенного мировоззрения. На первой лекции мы говорили, что истинное мировоззрение, т.е. представление о Боге, о мире, о человеке должно обязательно зиждиться на Богооткровенных истинах, потому что только этим истинам соприсутствует Святой Дух. А другим мировоззрениям соприсутствует ложный дух. Соответственно, только слово православного проповедника может быть исполнено Святым Духом, потому что мысли, составляющие основу его мировоззрения, даны Самим Богом и не подменены человеческими умствованиями, как это случилось с братьями инославными. А сегодня предметом нашей речи будут вопросы внешнего порядка. Однако же, вопросы очень важные. Потому что красота, по определению некоторых классических философов, есть единство формы и содержания. Отчасти об этом единстве мы говорили в прошлый раз, особо останавливались на афористичности языка Священного Писания, в котором каждая мысль подана в лаконичной и завершенной форме, где каждое слово отчеканено и представляет собой единство внешнего и внутреннего.
Только Бог один знает, какие мысли в вас живут – праведные или нечестивые. Но есть такое общение в мыслях. У единомысленных молящихся существ может быть некое таинственное общение. Например, у вас и у вашего Ангела Хранителя. Бывает, что в какой-то счастливый для Вас час, когда уже не "волнуется желтеющая нива" (т.е. ваше сердце мирно, тихо), Вы осенены неизъяснимым состоянием духовного покоя, то Ангел Хранитель свободно к вам приближается и влагает в вашу душу, ставшую простой, незлобивой, как малый ребенок, светлые помышления. И вы не знаете ни конца, ни края этим помышлениям. Душа просто молится, размышляя, молится, молится и размышляет. Такие редкие счастливые минуты. Говорят, что всякому христианину их дано испытать, но не тогда, когда он их ждет, а когда Бог нас утешает незаслуженно. Но если речь идет о слове, а не только о мысли, то тут, очевидно, и форма имеется звуковая или письменная. И, стало быть, об этой форме нам должно размышлять.
Сегодня мы будем говорить только об устной речи. И дело это, конечно, многосложное – устная речь. Потому что дознается лишь опытом. И только человек, опытно подвизающийся, не на книгах и не на пособиях строящий свои навыки, а на живом непосредственном опыте общения, только он восходит от силы в силу в деле устного проповедования.
Вчера, например, я имел замечательный для себя опыт слушания такого слова, такой речи, которая оставила глубокое впечатление. В Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 35 (бывшей Михайловской артиллерийской академии), что неподалеку от Кремля, открылся факультет православной культуры. И деканом этого факультета назначен протоиерей Дмитрий Смирнов. На первой встрече слушателей академии с пастырями он взял слово, и это было событие. Выступал он в большом зале – бывшей церкви Александра Невского. Акустика хорошая, ему даже мешал микрофон. Под конец он выступил на середину, отказался от микрофона, и тут-то пришла чаемая полнота. В речи своей он как бы отвечал на вопрос воинов высшего командного состава: "Зачем нам нужно что-то знать о православии?" Говорил о том, что трудности наши на самом деле не экономические и не политические, но все они связаны с утратой идеала нравственного. А народ, потерявший нравственный идеал, уже не может претендовать на то, чтобы быть народом. Говорил батюшка о том, что только православный народ, живущий в России, сохранял в последнее столетие этот идеал. И поэтому с судьбами России соединились судьбы мира, и от утверждения этого идеала в сердцах людей русских, безусловно, зависит конец мира либо временное приостановление этого конца.
Говорил батюшка так просто, а вместе с тем и глубоко. И самое, наверное, главное, что было в его речи, – это внутренняя одухотворенность. Это был не светский какой-нибудь батюшка-дипломат, но он сам был внутренне преображен своим словом. Возвышался, как некий православный Геракл, над своими слушателями. И при этом в нем не было ни капли самоутверждения, ни чувства превосходства, мол: "Я вас удостаиваю здесь божественного гносиса". Нет, говорил он со смирением. Не как содержатель истины, а как тот, которому поручено принять и передать. И воины сидели тихо-тихо. Дверь ни одна не скрипнула, мышка не пробежала. Первый блин не был комом, выпечен на славу.
Прислушиваясь к о. Дмитрию, я отмечал для себя, что он владеет всеми техническими средствами, достоинствами, приемами, которые отличают настоящего проповедника. И совершенно очевидно, что о. Дмитрий не изучал этой дисциплины, как мы с вами. Но только благодаря своему проповедническому опыту он по наитию пришел к обладанию всем тем, что свойственно хорошему учителю. И с точки зрения голоса, силы звучания, и в отношении интонации. У батюшки такие интонации разнообразные, как, знаете ли, какой-нибудь китайский водопад. Все богатство палитры. Вроде батюшка такой не маленький, как бы вырублен из нежно-розового мрамора, однако всеми интонациями владеет. А с точки зрения жеста? Я его не хвалю, просто рассказываю. А как он смотрит на аудиторию! А как не смотрит на аудиторию! А как пальчиком покажет! Хочет – так, хочет – этак. Очень выразительно! Мне кажется, что эти военные вообще не встречали еще такого стиля и духа повествования. А уж как строго говорит, с какой доказательностью, я бы сказал научностью, академичностью. Я был очень впечатлен этим и думал, как хорошо, что его выбрали деканом, потому что это попадание в десятку.
Итак, мы с вами сегодня и побеседуем обо всем этом, а я вас призываю внимательно приглядываться к таким образчикам проповеди духовных слов, потому что только тут, наверное, и можно научиться, и все это усвоить инстинктивно. А на нашем занятии мы лишь обнажим то, что сокрыто от обыденного внимания. То, что по наитию мы воспринимаем, мы здесь разложим, так сказать, по полочкам. Прежде всего, хочется, конечно, говорить о том, что отличает публичную речь от частной, от частного диалога, от некоего домашнего собеседования, приятельского обмена мнениями. Отличает совсем не тема и не предмет, ибо о духовном можно говорить и на площади, и сидя где-то в катакомбах, в пещерке небольшой. Но, конечно, публичная речь, прежде всего, требует от говорящего неестественного усилия, напряжения и душевных, и физических сил. И тот, кто этого не поймет опытно, будет всегда производить самое жалкое впечатление. Можно даже сказать, что микрофоны никакие ему не помогут, потому что уважать свое слово (не себя, что нам до себя-то) может заставить только тот проповедник, который это слово как подобает преподносит и до вас доносит. Я бы так сказал, что умение донести свое слово, – это есть проявление уважения, даже более: любви к своему слушателю.
А сами мы очень любим, когда слово доносится до нас легко и свободно, когда нам не приходится напрягать наши бедные уши, когда слово ложится на сердце без усилия с нашей стороны. Мы это любим, мы это ценим, мы радуемся такой возможности, просто отдыхаем душой, когда кто-то с величайшим усердием, ненавязчивостью, деликатностью, любовью обращается к нам со словом. Стало быть, это признак любви Христовой – так организовывать свою речь, чтобы она была не в тягость, а в радость слушающему. Вот идеологическое, духовное основание правильно устроенной речи: служение ближнему во славу Господа.
Поэтому-то можно и приметить часто, что человек, мало уважающий аудиторию или мало присматривающийся к человеку как физическому лицу, а более о человечестве любящий рассуждать, не особо много времени тратит на размышления о своем слове. Но говорит так, что слушать его приходится с величайшим трудом, и это грех для проповедника. А добродетель для проповедника – это постоянное ощущение усилия, которое вы делаете над собой. Это, я бы назвал, усилие любви, потому что от любви к людям вы тотчас переходите к желанию быть им полезным, вы цените их время, вы боитесь не оправдать их ожидания, вы понимаете ту ответственность, которую берете на себя, дерзая подняться на трибуну. Если все вы это понимаете, переживаете и ощущаете, то вы отнюдь не потеряетесь, не замешкаетесь, не будете что-то бубнить, но вы так станете говорить, чтобы слово было исполнено жизни, а не смерти. Самый большой порок конференций и симпозиумов, и всяких чтений, и столов, круглых и квадратных, что люди готовят интересные сообщения и доклады, но донести их до слушателя, очевидно, не хотят. Какое-то обидное противоречие: трудился, как купленный раб, кропал свою работу, дергал цитатки, склеивал, разглаживал утюгом свой доклад. А так его преподносишь, как будто бы с тобой какой-то словесный выкидыш происходит, мертворожденное дитя. Не потрудится, ни души не раскроет, ни сердца не обратит, а только бу-бу-бу... И тему-то возьмет какую-нибудь: "Эсхатологическая проблематика в писаниях святителя Феофана Затворника". Что может быть интереснее? А так эту тему преподнесет, что ни лучика света, ничего. А только бу-бу-бу... Речь не идет о каком-то искусственном драматизме. А речь именно о том, чтобы форма соответствовала содержанию.
Итак, ваш голос должен быть слышен всем в аудитории, в которой вы в данный момент находитесь. А аудитории бывают разные – маленькие, средние, большие. И очень большие бывают. И вот говорящему нужно каким-то образом почувствовать, слышат его или нет сидящие и стоящие на галерке или в проходах, и нужно найти то напряжение своего слова, ту громкость звучания, которая сделает нетрудным слушание слова. А если кто-то будет напрягаться, поворачиваться ухом, не потому что глухой, а потому что вы глухо говорите, то это уже грех для проповедника. Стало быть, нужно и говорить как-то распрямившись да расправившись. И сила звучания у вас должна не здесь – в ротовой полости – формироваться, а из глубины естества извольте звук подавать.
Образнее всего предоставить слово проповедника раскидистым деревом с широкой кроной. Прекрасная зеленая листва радует взор, приветно шумит, когда путник проходит мимо. Пичужки прячутся в ветвях да Богу песни распевают. Но крона не существует без ствола, а его-то и не видно. Ствол очень скромно себя ведет, но он-то и образует, собственно, дерево.
Крона – это лишь украшение. И вот таким стволом и является то напряжение физическое, та готовность всеми быть слышимым, слышимой, то неестественное усилие, которое вы употребляете, вкладывая в ваш голос все старание. А не так, как говорят доценты: "К этому вопросу мы еще вернемся в следующей лекции. Сегодня нас интересуют методологические основы преподавания схоластики в монастырях Каролинга XVII века". Любой учитель, который в школе работает с детьми, тотчас и поймет, и раскусит, в чем тут дело. С чем он работает? Точнее, с чем или с кем? Если он работает с монографиями – это одно. Называется это: книжный червь. Пробурился, в кокон свился, докторскую диссертацию защитил, и поехал отдыхать. А если он с людьми работает – это другое. Таким образом, крона, т.е. ваше слово, должно быть насыщено, должно иметь опору в этом усилии любви.
О главном мы сказали. О стержне нравственном и физическом, необходимом для речения благого слова, а теперь давайте перейдем к листве, к осенению этого ствола, т.е. собственно к внешним приемам речевого искусства. Здесь по важности в техническом отношении надо, прежде всего, обратить внимание на артикуляцию, т. е., во-первых, на то, как вы произносите звуки, и, во-вторых, на то, насколько ясными слышатся ваши слова.
Итак, звуки, которые образуются в устах человеческих. Конечно, в иных случаях, когда мы встречаемся с врожденными дефектами произношения, мы многое простим тому, чье слово дышит истинностью и глубиной. Хотя древность предоставляет нам примеры неимоверных усилий, какие прикладывали к исправлению своей речи знаменитые трибуны. Например, всем известный Демосфен набивал рот камешками и добивался членораздельности звучания, произнося свои речи под шум волн. Лишь заходящее светило его слушало. И нам тоже не должно мириться со своими дефектами произношения. Этим делом логопеды занимаются. Благо тому, чьи родители еще в детском возрасте обращали внимание на исправление таких дефектов. Ибо в зрелом возрасте уже намного сложнее научиться выговаривать правильно тот или иной звук, сложнее избавиться от звуковой кашицы, что десятилетиями постоянно варится в наших устах. Но все-таки безнадежных случаев нет. Господь через умелых врачей, равно и по нашим молитвам врачует все недуги.
Есть святые покровители, которым в таких случаях следует молиться. Например, можно обращаться к святому праведному Иоанну Кронштадскому. Он молился за некоторых заик, и его молитву слышал Бог. Есть и другие наши благочестивые соотечественники, которые обладали несравненной по силе и по убедительности речью. Таким словом и слогом отличался митрополит Платон Левшин. О нем государыня Екатерина так и говорила: "Платон кого угодно может заставить плакать". Митрополит Платон был придворным проповедником, но не царедворцем, не льстивым сановником. Молиться в данном случае подобает об упокоении его души с испрашиванием затем дара слова: Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего митрополита Платона, и его святыми молитвами разреши мою гугнивость, избави меня от языка косного, прилипчивого, даруй мне чистоту, ясность и громкость звучания. Не хочу больше быть такой водокачкой скрипучей, а хочу быть я гейзером могучим.
Особенно помогает достигать некой благозвучности чтение в храме Божьем. Потому что через церковное чтение мы очень быстро познаем все то, что нам мешает говорить. И буквально все спрятанное в душе становится явным через чтение. Даже особенности духовного устроения, какие-то сокрытые психологические тайны – все явлено бывает в нашем чтении. Замечено, что юноша, только-только начавший молиться в храме, мало-помалу отрешающийся от прозы греховной жизни, бывает мало способен и к пению, и к чтению. По мере очищения сердца меняются его вокальные и артикуляционные способности. Мы, священники, это знаем, потому что всегда говорим, иногда и поем, и за собой наблюдаем. Например, пост, воздержание от пищи многое меняет к лучшему в способности говорения. Самый звук становится звонче, мелодичнее, если человек хорошенько попостился. Душа просто поет у того, кто умеет поститься в меру. А человек, плотно закусивший перед всенощной сарделечками с горчичкою (больной вопрос, я чувствую, для студентов!), хотя и будет прилагать усилие, но в душе с подрезанными крылышками окажется.
Но самое главное – не еда. Самое главное – очищение сердца от страстей. Вот иногда слышишь, как чтец читает канон в церкви: "Пресвятая Богородице, спаси нас!" (читается быстро и с нажимом). "К тебе прибегаем, Пречистая, молим Ти ся, не остави нас благодатию Твоею" (с сильным ударением на последнем слове). "Пресвятая Богородице, спаси нас... (с неестественной интонацией), спаси наас... наас... наас...". Иногда человек так читает, что кажется, будто он совершенно даже не участвует душой, сердцем в читаемом. Вроде бы и отчетливо, и членораздельно, и старается, чтобы все его слышали, а вот душа не поет. Очищение сердца через исповедь, причащение и, конечно, через скромное, смиренное познание всех своих недостатков – и тогда чтение в храме доставляет огромную пользу проповедующим.
Для того чтобы все наши звуки выправились, мы должны, безусловно, гипертрофированное, т.е. преувеличенное внимание обращать на эти звуки, должны внутренне наблюдать за собой, уметь относиться к звукам, как к каким-то драгоценным камням, каждый из которых сидит в своем гнездышке. Вот выйдем на луг Божий. Сколько цветов в природе, какие разнообразные краски, ароматы. Но Бог не производит силоса. Господь творит былинку, травинку, соцветие, чашечку ландыша, цвет шиповника. Удивительная очерченость всего сотворенного. Каждая травинка сама по себе, а вместе – образуют стройный хор: многоцветье и аромат летнего луга. Так, убежден, должно быть и у нас во рту. Не винегрет с грубо нашинкованной морковью и листами капусты, прикрывающими хвостики редиски. Но нужно добиваться вот такой дискретности, раздельности, оформленности, четкости в произнесении звуков. Это самый первый этап речевого искусства.
Большую силу здесь имеет привычка. Привычка вырабатывает определенный вкус к произнесению слова. Особенно интересно слушать, как говорят эмигранты. А вот, пожалуйста: владыка Василий Родзянко, он часто по телевизору выступает. Как он хорошо говорит! Именно в отношении звука. Просто удивляться приходится. Можно даже сказать – это человек большой культуры. Обратите внимание, как удивительно хорошо русские эмигранты и их потомки произносят слова! Почему так? Они любят русский язык. Среди американского сленга у них, у наших русских людей, живущих за рубежом, настолько трепетное отношение к русской речи, что они ее просто смакуют, хотя им не всегда удается избавляться от акцента. Акцент, как правило, не в произнесении звуков, а в интонационном рисунке, мелодике речи, хотя и на звуки тоже влияет: "Вчера я была-а в Университе-ете. Да-а-а. На лекции об искусстве слова-а. О! русское сло-ово". Тем не менее, у них надо учиться. Что имеем – не храним, потерявши плачем. Потерявши близость к России, они действительно чувствуют, что речь – это стихия русской духовной культуры.
Теперь поговорим собственно о словах.
Слова тоже должны быть произносимы с тщательностью, и каждое слово, словно дивный цветок, должно быть ограждено заборчиком. Слова не призваны лезть из нас, как чертополох или крапива, смешиваясь между собою, сцепляясь как крючочками, слепливаясь подобно репейнику в одно, так что окончание не отодрать от приставки. Бывает очень тяжело слушать человека, у которого произошла агглютинация, т.е. склеивание, сцепление слов между собой.
Другая вредная привычка – это проглатывание звуков и слогов. Это проглатывание характерно для молодежи, которая все хочет заглотать, только приманку подавай. Я вам как-то уже демонстрировал такие глотания. Могу еще напомнить: "Ща как дам! А ты мне че дш?" Иностранцы не понимают, что такое "хрший чек!" И, безусловно, такое недопустимо никак в публичной речи, и тем паче при Богослужении. Иногда слышишь, как читают люди: "Слава Те-е Боже, слава Те Боже, слава Те Боже..." Ужас! За это "Те" на дыбу можно подвесить... на полторы минутки. Проглатывание окончаний слов – это очень вредная вещь. Проистекает она от неблагоговения и от небрежности.
Бывает еще, что у вас мысль опережает слово, и поэтому вы так торопитесь, что все сбивается в нечленораздельный мусс, и это, представьте себе, дух XX–XXI столетий. Это, конечно, проистекает и от неопытности. Не все педагоги, и не все учителя. Но мы часто неубедительны, нас не слушают серьезно, отмахи отмахиваются именно потому, что в нашем слове нет того веса, который обязательно привходит в слово ясное и членораздельное и, конечно, дышащее убеждением.
Что же делать? Как избавиться от погрешностей в артикуляции? Ничем иным тут горю не поможешь, если не выработать внутренней установки на внимание к звукам и словам, нами произносимым. Т.е. говорить нужно так, чтобы вас слушатель не переспрашивал, чтобы каждое из ваших слов ложилось ему на сердце, занимало свое место. Помните, как иглы и как вбитые гвозди (Еккл. 12, 11) должны быть слова проповедующего. Повторяю, здесь имеет место определенный речевой вкус, потому что наша речь является своеобразной музыкой. Не случайно ведь литературоведы занимаются исследованием музыкальности пушкинского слога. Подсчитывают количество сонорных звуков или звуков "р" в том или ином стихотворении. Бурря мглою небо крроет. Наша речь действительно, подобно музыке, может приносить эстетическое наслаждение, т.е. совершенно бескорыстную радость слушателю. Но в каком только случае? Если она будет полноцветной, полнокровной, живой, одухотворенной тем усилием любви, о котором мы говорили; и, стало быть, будет напоминать собою мир в его бесконечном разнообразии цветов, сочетаний, запахов, форм, очертаний и всего прочего. Не случайно поэтому говорят о художестве слова. Слово живописует. И, как у художника немаловажными являются, помимо композиции, формы, очертания, штриха, еще тона и полутона, оттенки бесконечно богатой палитры, так и в нашем случае звуки, вступая во взаимодействие между собою в слове, и сами слова образуют такое полотно. Если об этом размышлять, то много интересного открывается.
Между прочим, по тому, как человек соединяет слова, глотает слоги и вообще по его артикуляции очень много можно сказать о его воспитании. Более всего можно сказать о стиле жизни: как вы живете, чем дышите. Слово чрезвычайно многозначно, и все недостатки слова свидетельствуют о человеке. Можно сказать, каковы ваши интересы, какой вы культуры человек: современной культуры, светской культуры, молодежной культуры. В какой степени в вас православие пустило корни, насколько вы сопряжены с православной культурой, насколько вы стали или не стали обладателями ее духовных сокровищ. Все это обнаруживает манера речи и, прежде всего, артикуляция.
Нынешнюю лекцию мы посвятим чистоте, высоте и простоте слова. Если бы нужно было придумать эмблему, создать зрительный образ нашего сегодняшнего размышления, то я бы вспомнил слова А. С. Пушкина: "А орешки не простые, все скорлупки золотые, ядра – чистый изумруд...". Слово – это "чистый изумруд", но его нужно еще извлечь из скорлупы. У русского поэта и скорлупа была золотая, а наше слово очень часто закрыто некоей темной скорлупой, шелухой, которая препятствует слушателю слово и принять, и оценить, и усвоить. Вот об этой шелухе-скорлупе мы сегодня будем говорить, дабы слово предстало перед нами ярким и простым, высоким и чистым. Нас интересует именно устное слово, потому что к письменному слову предъявляются иные требования.
Итак, что же препятствует восприятию нашего слова аудиторией? Что мешает понять и, соответственно, принять его?
Пунктом первым я бы назвал общую свойственную нам и особенно молодому поколению немощь, которая именуется расслабленностью. Расслабленность души, расслабленность тела, снижение тонуса, недостаток того творческого подъема, без которого сомнительно всякое служение, тем паче служение слову. Дело в том, что в личном, дружеском общении мы, как правило, бываем расслаблены, раскованы. Говоря друг с другом, мы употребляем минимум усилий и произносим слова небрежно, нечетко, как бы усекаем их. Нашей молодежи свойственно "великий, могучий" русский язык упрощать и свою речь безжалостно комкать, делая ее какой-то сплошной аббревиатурой. Устная речь отличается от письменной тем, что в ней, на первый взгляд, без вреда проглатываются слоги, звуки, да и по законам орфоэпии в конце слова происходит естественное оглушение согласных и редукция, то есть сокращение гласных звуков. Носители русского языка понимают друг друга, затрачивая на это минимум усилий. Речь запанибратская, небрежная, вольготная, вальяжная совершенно неприемлема для служителя слова. Дело здесь вовсе не в отсутствии микрофона и не в каких-то посторонних шумах. Когда мы говорим о духовном слове – о слове, проникающем, по апостолу Павлу, до разделения души и духа, составов и мозгов (Евр., 4, 12), о слове, которое, как семя, призвано лечь на свежевспаханную почву нашего сердца, – то должны помнить, что к нему предъявляются совершенно особенные требования. Это слово, в сравнении с дружеским общением tкte-а-tкte, требует дополнительных усилий. Хорошо об этом знать, чтобы с первых опытов публичных выступлений в аудитории, хотя бы она состояла из десятка человек, готовиться к произнесению слова. Я веду сейчас речь не о теоретической подготовке, а о некоторой волевой собранности. Недавно мне пришлось поделиться с молодыми педагогами такой мыслью: провести занятие у современных школьников – это большой труд, и к нему нельзя подходить спустя рукава. Нынешняя молодежь, даже православные пяти– или шестиклассники, уже далеко не так боязливы, но гораздо в большей степени расслаблены по сравнению с нами, когда мы находились в том же возрасте. Тут как-то ко мне подошла воспитательница 7 класса нашей православной гимназии, где учатся симпатичные детки-подростки: "Батюшка, что нам делать? У нас присутствуют в классе воспитатель, учитель, еще один воспитатель – и мы не можем добиться от детей тишины, той атмосферы собранности и покоя, без которых проводить урок нельзя". Это наставники, которые, как правило, окончили богословский университет! Молодое поколение педагогов-богословов отличается известной скромностью, робостью (преимущественно речь идет о девушках) и излишним упованием на детскую сознательность. Им, конечно, не хватает способности показать если не педагогический гнев, то, по крайней мере, решимость навести дисциплину "железной рукой". И вот я, беседуя с педагогами, вспоминал, как, будучи молодым преподавателем, готовясь идти в класс, сам себе напоминал боксера, сидящего в углу ринга, напряженного и натянутого как струна, готового ринуться в бой.
В педагоге непременно должен чувствоваться этот тонус, бодрость и собранность. Речь идет, конечно же, не об агрессии. Дети – это цветы нашей жизни, и мы не должны бестрепетно обрывать их, оставляя лишь голые стебли. Но мы говорим о творческой энергии, о педагогической целеустремленности, способности в течение сорока пяти минут стоять на передовой и не показывать тыла противнику, о нашей готовности что-то очень важное им преподать, что-то сокровенное вложить в их расслабленные сердца. Эта благая энергия есть некоторая психологическая установка, которую дети либо чувствуют в вас, либо нет. И если на вашем уроке царит распущенность или аудитория дремлет, когда вы читаете свой высоконаучный доклад, то это вовсе не значит, что вам должно отказаться, зачеркнуть в себе душевную мягкость и стать жестким. Это значит, что вы внутренне не собраны, в вас нет той струны, которая связует сердце и ум с Самим Господом (речь идет о педагоге-христианине). Об этом нужно думать, к этому нужно готовиться, чтобы не пожимать плечами и не разводить руками: "Почему я не справляюсь, почему у меня ничего не получается, почему меня не слушают? Такой интересный материал, а дети, как муравьишки, расползаются у меня под руками". Кто-нибудь скажет, что школа – это специфическая аудитория, и не всякий катехизатор, миссионер и культуролог призван к общению с подростками. Однако любая аудитория заслуживает, чтобы перед нею стоял лектор-проповедник собранный, сосредоточенный, знающий, что он хочет сказать, и бережно относящийся к своему и чужому времени, ценящий своих слушателей и таким образом проявляющий любовь к ним. При наличии благого напряжения, в которое входит и подготовка к вашему слову, и стремление донести его, и понимание препятствий, стоящих на пути слова к сердцу слушателя, вы непременно ощутите Божие содействие в вашем делании.
Я знаю многих опытных проповедников, которые умеют беседовать с аудиторией на потребу их души и которые не любят перед людьми сидеть. Действительно, когда ты встал, тогда тебе легче сражаться, ты ощущаешь себя воином на поле сражения, ты сосредоточен, ты всем и отовсюду виден и сам можешь уловить выражение глаз, смотрящих на тебя. Если за чашкой чая мы совершенно раскрепощены, то здесь, напротив, прилагаем усилия, образуя, формируя и отчеканивая каждое наше слово. Ты стараешься быть услышанным и, как в начале речи, так и в конце ее, не расслабляешься, не желая, чтобы звуковые препятствия и помехи смазали, украли что-либо из того, о чем говоришь. Некоторые считают, что дыхание нужно поставить так, чтобы ты собою напоминал трубу органа в зале консерватории.
Особое внимание мы должны уделять артикуляции, то есть произнесению звуков. К сожалению, по большей части мы совершенно не осведомлены в этой области. Между тем у каждого из нас есть артикуляционные погрешности в произнесении отдельных звуков. Специалисты, которые прислушиваются к речи проповедника, сразу отмечают любые ошибки. Мы с вами воспитывались в такое время, когда логопеды индивидуальным образом в школе или в детском саду работали с детьми. Редко бывает, чтобы ребенок все буквы произносит правильно, но если в частной жизни дефект речи не играет особой роли, то для оратора, диктора, проповедника это имеет весьма большое значение. Дело в том, что, когда мы говорим, будучи отделены расстоянием от аудитории, то любая неточность в произнесении шипящих, свистящих, взрывных звуков, накладываясь на это самое расстояние, глушит звучание слов. Согласитесь, неприятно слушать ту речь, которая требует дополнительного усилия для понимания отдельно взятого слова. Само это затруднение, когда мы напрягаем слух и пытаемся уловить смысл небрежно произнесенной лексемы, является раздражающим фактором, который, как ложка дегтя в бочке меда, окрасит в бурые тона самое светлое слово.
Сейчас мы не говорим о вдохновенных проповедниках, лицах, славных на всю Россию своим благочестием. Мы им все простим за их нравственную непорочную жизнь; в конце концов, "лучше дела без слов, чем слова без дел", – по замечательному выражению древних отцов. Но в порядке обучения, отбрасывая фактор нравственного авторитета проповедующего лица, конечно, можно и должно говорить о необходимости устранения означенных дефектов. И каждому из нас неплохо в этом отношении слушать критические замечания, которые тотчас посыплются как горох, едва лишь вы приступите к речевой практике. Священнику в этом отношении непросто, потому что он вчера, может быть, сидел за комбайном или за компьютером, а сегодня должен и петь, и читать, и восклицать, и проповедовать – на все руки дока. Батюшки призваны быть и философами, и рассказчиками, и няньками. И каждый оценивает их по-своему. Как говорит грузинский патриарх Илия II: "Священник – это лицо, постоянно просвечиваемое рентгеном тысячи глаз". Поэтому иереям трудно впасть в головокружение от успехов благодаря множественным замечаниям, справедливой и несправедливой критике, исходящей от многочисленных прихожан.
Итак, мы говорим об особенно тщательно проговариваемом слове. И у каждого из нас наверняка есть свои сложности в этом деле. Общая рекомендация – больше обращать внимания на согласные звуки. Согласные звуки – это опора, скелет, на котором держатся плоть и кровь гласных звуков. И если вы произносите слово смазано, не уделяя должного внимания согласным звукам, то у вас речь превращается в кишмиш, салат оливье, где всякой звуковой твари присутствует по паре. К сожалению, будущие пастыри в семинариях не изучают этот предмет и только методом проб и ошибок мало-помалу приходят к тому, что является достоянием опыта педагогов. Мы, учителя, без большого труда вычисляем, имеет человек отношение к педагогической деятельности или нет, ибо по тому, как педагог с вами говорит, сразу можно определить степень его профессионализма.
Далее. Одним из главных факторов устной речи, ее достоинства или недостатков, служит интонация, то есть интонационная окраска, красочность или монотоннность вашего слова. Интонация, на наш взгляд, вещь таинственная, потому что она, как и самое слово, выдает устроение вашей души. По интонации можно определить, что вы за человек, каковы основополагающие свойства вашей личности. И речь идет даже не о психологическом типе (кто вы – сангвиник, холерик, меланхолик), но о вашей духовной жизни. По интонации, по вашему слову можно догадываться о том, что происходит в сокрытом от человеческих очей храме вашей души. Например, вы слушаете проповедника, который, едва начав говорить, обнаруживает неестественное воодушевление, прибегает к искусственному расцвечиванию слова, к патетическим завывающим интонациям, восполняя недостаток подлинной духовности. Если он заменяет духовную силу слова, как мы шутливо говорим, первомайскими призывами, если он хочет впечатлить аудиторию и привести ее в благоговение перед святыней лишь за счет интонации, без опоры на внутреннюю жизнь, то, конечно, вы не сможете отделаться от впечатления деланности, мертворожденности подобного слова, даже при самом блестящем подборе святоотеческих цитат. Такое слово, даже произнесенное технически безупречно, все равно выдаст в говорящем внутреннюю непричастность к предмету речи. А так обыкновенно и бывает, когда актеры с их поставленной речью, приятным, звучным, хорошо поставленным голосом, с их акцентуацией (то есть умением выделить главную мысль) пытаются в православном фильме произносить за автора монологи, а вы, уже хорошо зная, что по чем, миритесь с этой искусственной постановкой дела.
Аналогичный пример – клирос. Сегодня почему-то некоторые считают, что если они восходят на правый клирос, то тотчас должны что-то из себя выдавить, притом совершенно неестественное и несообразное с обиходом, с подлинно церковным пением. И действительно, очень часто бедный клирос, из кожи вон вылезающий, является инородным телом по отношению к богослужению именно потому, что певчими усвоена манера оперного вокала, совершенно не подходящего для пения стихир и кондаков. Печально, когда замутняется духовный смысл богослужебных текстов из-за экстатической, основанной на внешнем эффекте манере пения. Так бывает и у тех, кто работает с устным словом.
Мне не хочется широко приводить примеры ложного риторического пафоса. Ведь даже само словосочетание "братья и сестры" может быть произнесено совершенно по-разному. Если ты чувствуешь духовное родство с теми, кто тебя слушает, если действительно предстоишь Отцу Небесному, по отношению к Которому мы все – дети, тогда твое "братья и сестры" будет одушевлено, произнесено сердечно и коснется души слушателей. Но когда это только клишированная фраза, оторванная от проповедника так же, как он оторван от прихода (говорю о священнике, не живущем единым духом со своей паствой), в этом случае и прекрасное начало, произнесенное деланно, нараспев: "Возлюбленные братья и сестры, нынешний праздник навевает благочестивые размышления...", – будет иметь печальный конец, ибо никто не захочет внимать тому, что удалено от сокровенной жизни сердца.
Но скажем и нечто положительное. Тот, кто действительно старается жить с Господом, по Его заповедям, тот, кто привык к сердечному, а не политесному общению с людьми, тот, сам не замечая как, бывает чрезвычайно разнообразен, глубок в интонационной окраске своей речи. Попробуйте убедить в чем-то нашкодившего мальчика, но при этом не подавить, морально не уничтожить. Ты все-таки воспитатель, а не следователь, чья главная задача определить "состав преступления". Вот к вам подводят паренька (подлинная история из сегодняшнего школьного дня).
– Батюшка! Коля опять отличился! Вы только на прошлой неделе с ним беседовали о том, как плохо шарить по карманам в раздевалке... А он нашел мобильный телефон и никому об этом не сказал. И не показал никому свою находку.
Не показал Коля и мне этого телефона; видимо, решил его присвоить.
– Так я же потерял на прошлой неделе мобильный телефон! Может быть, это мой? – спрашиваю я.
– Нет, батюшка, – отвечает он, – не ваш. Нам сказали, что вы потеряли, но это не ваш.
– Хорошо, предположим, это не мой мобильный телефон – дорогой, из титана. А вдруг это собственность другого батюшки? Представь себе, ему сейчас звонят по телефону: нужно причастить умирающего. И батюшка из-за тебя, из-за того, что ты найденный телефон вовремя не сдал куда следует, не поспеет к одру умирающего... Ты понимаешь, что это такое?!
Итак, когда вы обращаетесь к живой душе, не желая ее ни подавить, ни смять, но каким-то образом усовестить милого отрока, вызвать в нем те чувства, которые вам нужны (мальчик-то не бесстыжий, он уже сам себе не рад), вы как воспитатель, как священник будете из глубины сердечной выдыхать каждое свое слово, то понижая, то повышая интонацию, и это будет носить печать подлинности, простоты, искренности. Такое слово всегда дойдет до цели, попадет в десятку. Конечно, этим искусством лучше всего владеют педагоги, но суть здесь не в знании формальных правил. Важно, чтобы каждое ваше обращение к ребенку, каждый ваш вопрос был одушевлен искренним чувством заботы, тревоги и любви. Если, например, что-то взято без спроса, а вы лично живете по правилу "чужого не трогать" и сами с отвращением относитесь к этому греху, то, общаясь с мальчиком, повязанным этим грехом, вдохните в него ваше собственное недоумение, изумление: "Как можно брать чужое? Да никогда!" Интонация сама родится и изобразится эдакой осциллограммой именно потому, что душа ваша не мертвая, не инертная, не индифферентная, а живая, подвижная, динамичная! Отождествите себя с ребенком, вместе с ним и раскаиваясь, и переосмысляя содеянное: "А как, милый мальчик, ты поступишь завтра – опять так же? Не телефон уже, а что-нибудь посущественнее попадется. И ты сможешь снова это сделать?". Неравнодушие к человеку, всецелая заинтересованность в нем дает вам возможность "радоваться с радующимися и плакать с плачущими", и тогда вы облекаете ваше слово той интонацией, которая свидетельствует о жизни духа и о чистоте вашей собственной совести.
Помимо интонации, дорогие друзья, внутренняя сила слова зависит от экспрессии, то есть выразительной звучности речи. Вы знаете, что грех, войдя в человека, делает душу как бы мертвой. Например, если переешь, то преступишь, нарушишь свою меру. Человек объевшийся отваливается от стола, как клещ, напитавшийся кровью пуделя. Он уже не способен ни к молитве, ни к размышлению, у него соловеют очи, и по закону естества он уже готов упасть в объятия Морфея.
Любой грех, завладевший человеком, делает его внутренне инертным, что непременно отражается, в том числе, и на нашей речи. Речь вялая, безвольная, безжизненная выдает соответственное устроение души. Таковы подростки, которые далеки еще от обретения смысла жизни, целеустремленности, они очень легко идут на поводу у греха, им еще неведома серьезная борьба с собственными страстями. Педагог, оратор, трибун, проповедник в этом отношении должен быть личностью уже сформировавшейся. Он должен, конечно же, жить под знаком победы добра над злом. Если удельный вес зла и страстей еще слишком велик, то ничего, кроме растерянности и смущения, в тот час, когда нужно говорить о Боге, о совести, о добре, он почувствовать не может. Убежден, что бодрость, динамика, живость души, а значит, и сила подачи слова являются плодом нашего маленького подвижничества, нашей личной борьбы со страстями, наших молитвенных усилий и личного предстояния Живому Богу. Без духовного тыла, покаянного трудничества, ограничиваясь лишь чтением риторических учебников, вряд ли можно обрести указанную нами энергию слова.
Изучая жизнь праведного отца Иоанна Кронштадского и его дневники, мы можем почувствовать, что каждое его слово подобно солнечному лучу, молнии. Какой-то студент, запоздавший в храм, увидел, как при чтении отцом Иоанном часослова у него из уст исходили молнии, светлые лучи. Вот идеал, к которому мы призваны стремиться! Вот та внутренняя напористость, бодрость, энергия, которая нам необходима! Это очень важное, на наш взгляд, слагаемое в успехе словесного служения. Либо наши собеседники подавят нас, и мы подпадем под их влияние, либо мы будем благотворно воздействовать на аудиторию, пробуждая в ней "чувства добрые".
Люди приходят нас послушать добровольно, в тайной надежде получить от нас то, чего им недостает. Вот человек, склонный к унынию, а у вас в глазах светится радость... Вот человек озлобленный или, по крайней мере, раздражительный, склонный переваливать вину с себя на обстоятельства. Все его выводит из себя, никто не оправдывает его ожиданий, а вы богаты благодушием и великодушием, милостью и снисхождением. Он будет с жадностью пить, как березовый сок, дух вашего слова, потому что его измученная душа обретет в ваших словах покой и умиротворение. Внутренняя бодрость, заряд духовный, прежде всего, отражаются в вашем слове, в темпе речи, в энергичности вашего обращения, в силе, в звучности вашего слова.
Наконец, дорогие друзья, упомянем еще о чистоте слога. Чистота, богатство слога обусловлены словарным запасом, которым вы пользуетесь. У каждого из нас есть свой словарь, и есть своя сердечная кладовая. Из этой кладовой мы извлекаем непосредственный материал, кирпичики для построения здания, звенья, выстраивающиеся в единую золотую цепочку вашего слова. И помимо этого словарного запаса, наверно, нужно говорить о каждом отдельном звене, не обойдя вниманием и те окиси, которые иногда разъедают наши слова, то есть прокравшиеся в нашу речь слова-паразиты. Что касается словарного запаса, то он находится в зависимости от нашего круга чтения. Так обычно и говорят: "Приметил, что этот малый совершенно не книжный. О, sancta simplicitas, святая простота! Он пытается облекать свою мысль в слово, но больно скуден его кругозор, который необходимо расширить через самообразование".
Что будет с поколением, которое наступает нам на пятки, сказать не могу, потому что нынешние дети, привязанные к компьютеру, совершенно не способны к чтению, у них отбит к нему вкус. Для нас с вами тема классного часа "Книга – мой лучший друг" – была еще вполне естественной и законной. Вкус к чтению формирует нравственные качества личности.
Сегодня, впрочем, богослова подстерегают следующая опасность. Человек начитанный, достаточно знакомый с творениями святых отцов, с мировой и русской классической литературой, занимающийся богословским творчеством, часто теряет способность говорить просто и незамысловато, перегружает свою речь специальными терминами, почерпанными из академических трудов. Опасная тенденция, особенно для нас, священников, потому что батюшка лишь во вторую очередь богослов. Курсовые пишутся в научном стиле, а беседы с людьми требуют совершенно иного. Бывает обидно за высоко ученого, может быть, всесторонне образованного миссионера-катехизатора, который не в состоянии понять, почувствовать, услышать, воспринимается или нет его слово, назидает ли оно или рассеивает слушателей. Между XIX и XXI веками лежит огромная пропасть. Святителя Филарета Московского нелегко сегодня читать без подготовки. Слово святителя Иннокентия Херсонского, замечательного церковного оратора XIX века, усваивается лишь теми, кто действительно понял и полюбил церковную проповедь его времени. Следовательно, мы сегодня должны быть очень бдительны, дабы не перегружать нашу речь высоким богословием, не утяжелять наше слово, обращенное к студенческой аудитории, еще находящейся за оградой Церкви. Все приходит с опытом как плод нашего сочувствия аудитории. Внутренним чутьем определяем мы степень просвещенности наших слушателей, выбирая те или иные лексические средства, им понятные и приятные.
И, наконец, скажем еще о словах-паразитах. К сожалению, это вещь заразная. Как правило, эпидемия, начавшаяся в классе, очень быстро захватывает весь коллектив. Проверено многократно, что усвоенные нашим сознанием словечки, ничего не значащие и непонятно для чего произносимые, обладают большой степенью прилипчивости; отодрать их от поверхности языка тотчас и вдруг практически невозможно. Главное – осознать присутствие этих слов как грех. "Так сказать", "вот", "сами понимаете", "тыры-пыры"… У меня есть одна добрая знакомая, у нее такой паразит "тыры-пыры". Смешно это слушать, а сорное словцо у человека в горле застряло, как острая косточка. Мало опознать этого паразита как словесный грех (любой грех врачуется исповедью), необходима известная степень внимательности, умение слышать себя со стороны и готовность великодушно принимать все замечания и дружеские колкости, которые высказывают нам собратья.
Пальму первенства среди словесных паразитов держит междометие "ну". Без этого "ну" сегодня не начинается ни одного ответа в школе, ни одного доклада, и, повторяем, требуются определенные усилия, чтобы, опознав врага, обезвредить его.
Не забудем еще такого словесного червя, который называется звуковая пауза: когда человек озвучивает процесс мышления. Хорошо, что он у вас на глазах размышляет и не произносит все по писаному; но звуковые паузы не щадят даже профессоров и академиков, не обходит стороной протоиереев и архимандритов: "Как вы считаете, дорогой отец К., что ждет Россию в ближайшем будущем, если в русском народе мы не увидим стремления к очищению, если он будет так вот бездумно и рабски принимать ту пищу, которой кормят его магнаты телевидения? Что вы скажете, отец К., по этой жгучей проблеме?" – " Э-э-э-э, здесь видится несколько аспектов... м-м-м… у-у-у…"
Действительно, иной человек, напряженно думая, меньше говорит, а больше мычит и блеет. Опять-таки лишь благодаря своему авторитету ученого или духовного деятеля он избегает насмешек публики. А если приглашенное к ответу лицо и в этом отношении еще себя не реализовало, то слушатель "Радонежа", напрягающий свой слух (добавим, что и слышимость радиоприемника бывает плохая), наконец, забыв все приличия, скажет: "Что ж за мученье мычанье сие слушать!" Может быть, все сказанное кому и покажется пустяком, чем-то смешным, однако на опыте мы знаем, что добиться чистой, звучной речи, абсолютно свободной от этих словесных вирусов, – дело, требующее многолетней практики. И главное в этом искусстве – умение слушать себя и на ходу корректировать, исправлять и управлять самим собой, опознавая и убирая все препятствующее должному восприятию вашего слова.
И самое последнее. Иногда слово произнесено прекрасно. Человек, кажется, знает свои огрехи, говорит содержательно, все у него по существу, по делу, он не равнодушен к своей речи, говорит убежденно, энергично, проникновенно. Один только недостаток – неумение акцентировать свою речь, делать смысловое ударение, отделяя важное от не слишком важного; неумение подвести итог, знаменатель, влагая в сознание слушателя главную свою мысль. Это предмет, который относится к технике речи. Мы, к сожалению, не можем рассмотреть за один раз все нюансы. Есть такое понятие как речевая пауза, когда прежде вашего тезиса или заключения вы вдруг смолкаете на четверть секунды... и затем произносите самое важное. Как горная река, ваше слово тогда снисходит в сознание слушателя с высот богословия. Акцентуировать речь, то есть указывать наиболее значимые ваши мысли, перечислять их – дело опытности. И, напротив, иной человек "на куче золота сидит и от голода умирает", то есть, произносит очень содержательное слово, но не умеет отметить значимое место в силу какого-то испуга перед аудиторией, или из-за спешки, или из-за неуверенности в себе. И это бывает не слишком выгодно для общего впечатления, остающегося в сердцах наших слушателей.
Есть дисциплины, которые читаются в семинарии, в академии и в богословском институте. Одна из них – гомилетика – наука, изучающая историю и теорию проповеди. Есть более общий предмет – риторика, которая изучает основные законы, по которым строится ораторская речь.
А наш предмет – искусство речи. Этот курс главной своей целью ставит задачу практически помочь студентам мало-помалу овладеть словом, научить их облекать мысль в слово – простое и ясное, высокое и доходчивое одновременно. В театральных вузах есть предмет, который называется "Сценическая речь". Там опытные педагоги, владеющие речью со всех точек зрения: постановки дыхания, артикуляции, просодии, звучности голоса – ставят своей задачей научить человека выразительно декламировать, помогают ему очистить речь от всех недостатков, как интонационных, так и лексических. И мы коснемся, конечно, этого предмета, он будет для нас совсем не лишним.
Но особенность нашего курса заключается в том, что мы главным своим предметом избираем духовное слово, которое говорит не просто о высоких материях, но которое обращено к Тому, Кто выше всякой материи и выше всякого слова. Это слово о Боге и о Его совершенствах. Слово, которое призвано вывести слушателей на дорогу Богопознания и Богообщения.
Сегодня я поведу речь о грехах языка, потому что сам дар слова есть драгоценнейший. Все мы от Бога этот дар получили для разумного и приличного использования, но не все мы этим даром достойно пользовались и пользуемся. Говоря проще, в отношении языка мы во грехах, как в шелках, и пришли слушать этот курс, не будучи безгрешными и чистыми, начиная от говорящего и кончая слушающими. Поэтому все мы испытываем нужду в очищении.
Классические античные трагедии, как известно, приводили зрителей к катарсису, доставляли им некое глубокое переживание, возбуждали дух слушателей, заставляя их страдать вместе с героями. Трагедии настоящих художников слова служили подобием бани, очистительной и очищающей.
В размышлениях, с чего начать эту лекцию, заблагорассудилось мне приготовить для вас "словесную баньку", хорошо протопленную русскую баню, чтобы всем нам хорошенько покаяться в грехах языка. А вы это всё возьмите на заметку, потому что грехи записывать – дело отнюдь не лишнее. Даже в книге "Лествица" святого Иоанна игумена Синайского мы находим, что еще в VI столетии насельники превосходнейших монастырей записывали свои грехи. Вот и мы поразмышляем сегодня о языковых ошибках и, может, вспомним что-нибудь, раскрыв книгу прожитой жизни, а заодно попробуем дать определение тому или иному греху языка и... покаяться, пусть и в лекционном порядке.
Эпиграфом к нашей сегодняшней лекции могут служить слова самого Господа Иисуса Христа: Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишъся (Мф. 12, 36–37).
Из того, что слова во множестве сходят с уст наших и мы никогда не удосуживаемся вести им счет, вовсе не следует, что у Бога забыто хотя бы единое слово, необдуманно сорвавшееся с языка. Нет! Господь все взвешивает на весах Своей правды и любви. Да и падшие духи тоже осуществляют свой контроль над человеком, со злой целью, конечно: представить нам тотчас по исходе души обвинительный акт. Да еще какой! Демоны нас будут обвинять даже в том, в чем мы и не согрешили, а в чем только думали согрешить. И это испытание не для слабонервных. Не дай Бог, человек придет в замешательство, отчается или начнет спорить с демонами. Святитель Феофан Затворник говорит, что лучше заранее испугаться этой перспективы и подготовиться к ней. Хорошо бы перед началом курса об искусстве речи прочитать о мытарствах блаженной Феодоры. Она была задержана как раз на тех первичных мытарствах, где воздушные истязатели представили ей, выражаясь современным газетным языком, компромат в отношении празднословия, лжи, лукавства.
А теперь только представим себе грехи уст человеческих... С чем их сравнить? Если избрать мягкое сравнение – с листопадом. Вот лес роняет "багряный свой убор", земля уже не голая, а пестрая, словно "рукой искусной вытканный ковер". Бессчетное множество опавших листьев... И все же в лесу осеннем, лишившемся своего убора, листвы меньше, чем словесных грехов, содеянных нами "в разуме и в неразумии".
Подумаем еще о том, что греховное, грязное слово – это совсем не опавший лист, совершенно безвредный и даже полезный, ибо он дает перегной; но грешное слово сродни ядовитой змее. А ядовитых змей много: есть гюрза, есть эфа, есть гадюка. Празднословие по сравнению с осуждением – то же самое, что желтопузик 36 по сравнению с гадюкой.
Представьте себе: открываются, как у "испуганной орлицы", наши очи, и мы превращаемся в духовидцев; на мгновение ока Господь отдергивает завесу от того словесного террариума, в котором мы пребываем; заслонив рукою Своего всемогущества чужие грехи, оставляет нам только наши. И мы видим себя по выю (по шею) погруженными в отвратительный греховный клубок. Помните слова из Канона покаянного ко Господу Иисусу Христу: Якоже бо свиния лежит в калу, тако и аз греху служу (Песнь 6).
Как бы душа тогда содрогнулась, как бы возопила: "Спаси мя, Господи, погибаю!" Хоть один раз, но искренне мы бы в глубине сердца сказали: Боже, очисти мя, грешнаго! Боже, милостив буди мне, грешному! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, – выдохнет грешник из души пламя молитвы, – помилуй мя, грешнаго! И начинает стонать, а потом плачет горючими слезами. По мере того, как он плачет, снисходит от Господа очистительная благодать, та, о которой, мы просим: И да вселится в мя, Господи, благодать Твоя, очищающая и освящающая всего человека во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Скорее на исповедь! "Эта исповедь, братья и сестры, – говорит один известный священник, – для многих из вас будет, может быть, последней". Словно малыш-голыш в лучах солнца, освященный так, что ни одна частичка тела его не осталась во тьме, несчастный кающийся грешник чувствует, что вся его душа раскрыта, освещена, ничего не может быть утаено от всевидящего ока Божия – и таким же образом к христианину приходит осознание великости и тяжести его словесных грехов.
Я не буду подробно говорить о загробных ужасах и мучениях, о том, как именно демоны мстят тем, кто здесь, на земле, согрешал языком; эти образы настолько натуралистичны, что могут иных повергнуть даже в нечаяние (это легкая степень отчаяния). Нам не должно впадать в уныние, потому что "ныне время благоприятное". По мысли блаженного Феофилакта Болгарского, Господь в этом земном веке столь милостив к кающимся, что и представить себе, вобрать в сердце и в ум это невозможно. Господь обещает все простить в награду за покаяние и перемену жизни к лучшему.
Давайте же сегодня публично покаемся, я думаю, что это хорошее начало нашего курса по искусству речи. Без такого начала, без такого импульса наш предмет усвоить можно только на 25%. А кто сегодня подвигнется к покаянию, усвоит его куда полнее. Кому сколько Бог даст: кому на 30, кому на 60, а кому и на 100%.
Итак, откуда начну плакати окаянного моего жития? 37 Прежде всего, в наше сознание входит следующая мысль: "Почему так тяжек грех языка? Почему за каждое праздное слово подлежит нам, по Евангелию, воздать отчет в день Суда?" Дело в том, что даром слова Господь выделил нас из мира всех прочих живых существ, обитающих на земле! Этот дар сопряжен с разумом, этот дар делает нас царями над видимым миром. Соответственно, согрешая языком, мы не просто становимся в один ряд со скотами, как царь Давид про себя говорил: скотен бых у Тебе (Пс. 72, 22), – не просто повторяем другие слова пророка: Человек в чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им (Пс. 48, 21), – но мы, очевидно, опускаемся на уровень куда ниже демонов. Демоны – словесные существа, но они уже неисправимы. Спаситель не пришел искупить падших духов, ибо они и не готовы были принять Христа и отвергли Его, как отвергли служение Пресвятой Троице. Но мы, почтенные этой честью, согрешая языком, воистину низвергаемся в глубочайшую бездну – место пребывания самих злых демонов.
Очень полезное размышление для стяжания правильного представления о себе самом: Кто – Господь, и кто – мы, Его непослушные дети, много согрешившие против святости Небесного Отца? Итак, у нас дар слова повержен в нечистоту. Как человек, бьющий кулаком своего ближнего, разбивает руку, так мы растлили наш словесный орган, повредили его, и душу, и тело соделав повинными геенне огненной.
Об этом пространно рассуждает апостол Иаков, говоря: Язык небольшой член, но много делает. Язык... оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны" (Иак. З, 5–6). Язык некой таинственной нитью связан с огненной бездной. Первая сатанинская искра, которую бросает в нас Люцифер, падает именно на язык посредством грешного, грязного, лживого слова! Это слово растлевает душу, оно имеет свойство опалять и чужие сердца. В книге Откровение Иоанна Богослова, между прочим, сказано о звезде "полынь", от которой третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод потому, что они стали горьки (Откр. 8, 11). Эта звезда, именуемая полынью, или чернобылем 38, по разумению святых отцов, есть не плод термоядерной реакции, но совокупность сатанинских учений, которыми будут отравлены сердца живущих на земле.
Итак, осознав нашу греховность в отношении слова, признаемся, что мы это драгоценное орудие испортили и затупили, и оно, проржавев, сделалось уже не способным к славословию Творца. А для чего Господь дал нам язык? Ведь мы рождены "не для житейского волненья, не для корысти, не для битв". А для чего? "...Для вдохновенья, для звуков сладких и молитв".
Ощутив нашу вину пред Божиим Словом за осквернение словесного органа, а если хотите – оргбна, начнем перечислять, размышлять и одновременно каяться в каждом из грехов нашего языка.
Когда священники принимают на исповедь приходящих в первый раз, то они всегда начинают с малого. Вот и мы с вами, начав каяться в грехах уст наших, первым крючком зацепим эдакого лягушонка – празднословие, или иначе – праздное слово. Кстати сказать, какая разница между праздным словом и праздничным словом? "Сегодня, в день Рождества Богородицы, владыка произнес содержательное, воистину праздничное слово". Праздное слово того же корня, что и праздничное. Упразднитеся, – сказано в Писании, – и разумейте, яко Аз есмъ Бог (Пс. 45, 11). Упразднитеся, т.е. отрешитесь от всякой суетной, внешней деятельности, посвятив душу Богомыслию и Богообщению. Грешно в праздник, извлекши из сусеков запасы пшенки, заняться ее перебиранием. Нельзя в праздник заниматься изъятием черных соринок из крупы или выбирать жучков из домашних запасов муки. На это есть будничный день. Итак, праздник – день, когда духом и телом мы служим Богу, оставив все земное.
А праздное слово – это нечто другое. Мы говорим еще: "непраздная жена". Непраздная жена, то есть имеющая во чреве, беременная женщина. Праздная утроба – пустая утроба. "Что ты стоишь празден, ничем не занятый?" 39 Итак, праздное слово – слово пустое; слово, лишенное благого смысла. Под праздные словеса подпадают все наши изречения, которые сказаны просто так, не с мыслью прославить Господа, не с мыслью принести пользу слушателю, а так – от нечего делать. Пусть это еще и не откровенно греховное слово, но оно все же лишено энергии, правды и любви.
Праздное слово. Оно подобно скорлупе, лишенной ядра ореха. Пустое, бессодержательное, неназидательное, подобное шуму ветра в листве. Таких праздных слов мы слышим и говорим тысячи, а, может, десятки и сотни тысяч; эти слова относятся к разряду сотрясающих воздух.
На нашу долю, когда мы были школьниками, студентами, думаю, выпало особенное обилие праздных слов, потому что многие дисциплины, которые мы изучали, были праздными, ненужными, бесцельными. Господи, помилуй! Одна история меньшевистской и других партий преподавалась нашему поколению студентов десятки часов! И когда мы произносили праздные слова, то в душе всегда оставалось ощущение пустоты, а иногда и темноты.
Святые Отцы свидетельствуют: "Горе человеку, не умеющему вовремя сомкнуть уст своих". Так и сердце говорящего, не знамо зачем, подобно тому, как из жарко натопленной печки при открытой настежь двери уходят жар и пар.
Лекарство против празднословия – это знаменитое словесное правило, которое является собственно "плодом, достойным покаяния" 40. Кто не хочет и боится произносить праздные слова, пусть выучит это правило, и не просто выучит, а внедрит, укоренит его в сердце своем. Оно очень простое, его стоит записать: "Думай, что говоришь, кому говоришь, зачем говоришь (это самый главный пункт), где говоришь (в какой обстановке) и какие из этого будут последствия".
Кто-нибудь спросит: "Разве можно об этом постоянно думать? Тогда придется раз навсегда замолчать". Нет, усвоив правила не умом лишь, но и сердцем, не будем согрешать языком вовсе; конечно, если поможет Бог!
Смотрим далее, что водится в нашем языковом террариуме, и находим там следующую змею: слово осуждающее. Это уже не слово, а какое-то терние, да еще с шипами. Это слово, которое не просто опустошает, а ранит; слово, подобное клещу, которого не так-то просто извлечь. Это слово внедряющееся; слово, похожее на ядовитое насекомое, которое портит кровь. Это то слово, о котором говорят: "Написанное пером не вырубишь топором".
Итак, осуждающее слово, грех осуждения. Грех, столь же распространенный, сколь и тяжелый. Осуждение всегда свидетельствует о гордости осуждающего, ибо гордый не признает суда над собой. Гордый развешивает ярлыки, гордый отправляет одного в геенну, другого – в чистилище, но сам действует как неподсудный. А между тем, по слову святых отцов, если ты свободен от греха, то никогда именно в этом грехе и не осудишь ближнего.
Например, если в тебе нет блудного греха, но сердце усвоило добродетель целомудрия, ты никогда не осудишь согрешившего брата, а некоторым образом поболезнуешь о нем, помолишься и скажешь: "Боже, очисти нас, грешных!" А если осуждаешь, значит, сам нечист и судишь себя самого. Каким словом судишь, таким и сам судим будешь, 41 – говорит блаженная Феодора. Осуждающий восхищает сан Христа, то есть поставляет себя на место верховного Судии. Какого же наказания он достоин?! Посему апостол Павел призывает не судить прежде времени, пока не приидет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения (1 Кор. 4, 5). А что находится во мраке? – Душа ближнего, по причине мрака неведения твоего. "Чужая душа – потемки". Осуждающий гордец, по существу, осуждает лишь сам себя. Итак, говорим мы, гордый и осуждающий роет себе яму. Правой рукой строит, а левой разрушает. Еще при этой жизни Господь его вразумляет, как котенка, которого хозяйка мордочкой в собственную его лужицу тыкает. А если он так и не исправится, то сугубо будет наказан, ибо осуждающий грешит произвольно, не по немощи.
Хочется спросить: "Братцы мои, да что же вы все кости-то ближним перемываете, никого не пощадили: от привратника и дворника до инспектора и ректора?" – "А это мы по немощи, по немощи осуждаем".
Нет, по немощи человек может объедаться, а осуждает только по собственной злонамеренности. Не худо вспомнить, кого, когда, где и как именно мы осудили. В осуждение вменяется и слушание осуждения с понимающим видом: "Да, брат, ты еще мало сказал о нем. Это такая дрянь, о которой и думать противно. Марать язык не хочу об это двуногое". Не ужас ли?
Но будем дальше двигаться по словесным мытарствам. Так мы дойдем до греха лжи.
Слово лживое, слово ложное. Бывает ли ложь во спасение или нет? Говорят, бывает. Это так называемая "формальная ложь", когда по форме – обман, а по духу – правда. И даже светские философы эти примеры приводят. Спасая жертву от гонителей-губителей, добрый человек примчавшегося злодея направляет по ложному пути. Обман? Да. Но по сути – доброе дело. И для злодея, и для жертвы. Злодей не достиг своей цели, не сотворил греха, или только в намерении сотворил, а невинная душа спасена от поругания и гибели.
В связи со сказанным можно слегка распространиться. Что может быть важнее исповедания веры? – "Ты верующий?" – спрашивают человека. Отречься, ответить словом "нет" – это тягчайший словесный грех, ибо устами мы исповедуем Господа во спасение, а сердцем веруем в правду (см.: Рим. 10, 9). Но всякий ли раз на вопрос: "Ты верующий?" – мы должны отвечать: "Да, верующий"? Святые Отцы и наставники жизни христианской говорят: "Нет, не всякий раз мы должны исповедовать веру". Если человек вопрошает искренно, если для него это жизненно важное дело, если он вопрошает, дабы твоим ответом утвердиться в вере самому – конечно, ты должен делиться своим духовным сокровищем. А об иных вопрошающих сказано: Да не врагам Твоим тайну поведаю. И Господь говорит: Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями (Мф. 7, 6), то есть, если спрашивает человек с неподобающей целью, с иронией, с издевкой, "так просто": "Ха-ха... И ты что, тоже верующий? Дошел до такого состояния?", – в этом случае ответим так, чтобы он замолчал надолго. Имеется в виду не удар кулаком, а достойный разумного студента ответ: "А ты кто такой, что меня об этом спрашиваешь? А может, тебе еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?" Если же вам трудно так говорить, можете ответить на детском уровне: "А ты читал книгу Гайдара "Тимур и его команда"?" Он скажет: "Да, что-то слышал". – "Так вот, должен знать, что такое военная тайна".
Лживое слово насыщено и растворено лживой силой, что указывает на несомненное происхождение его от диавола, самого отца лжи. Ложь и обман бывают различных видов и родов. Фантазер, мечтатель врет, потому что привык привирать, как говорят, "из любви к искусству". О таком роде лжи дети говорят: "Враки". Конечно, присутствует определенная доля тщеславия, когда человек приукрашивает детали, говорит о том, чего не было; а о том, как именно было, умалчивает. И все мы немножко тщеславны, а значит, лживы. Но в данном виде лжи человек не преследует корысти. Он потакает тайным страстишкам своего сердца, главные из которых гордость и тщеславие. Иногда он от испуга говорит неправду, по малодушию, а малодушие – это тоже в чем-то тщеславие, а в чем-то – трусость.
Есть и другой род лжи, лжи более примитивной, грубой, которая намеренно сбивает с толку, дезориентирует, лжи, за которой проглядывает определенная корысть. Эта ложь свойственна бессовестным, тем, кто вовсе разорил заповедь о любви к ближним, забыл главную заповедь: Не делай другим того, чего себе не желаешь. Ложь – обман, с которым соединено лукавое слово. Диавола мы называем "лукавым"; мы просим Господа в молитве: Избави мя (нас) от лукавого (Мф.6,13). Лукавый, т.е. изогнутый, хитрый, изворотливый, непростой, непрямой. Лукавство – это мерзкая страсть еще потому, что изжить ее весьма трудно. Лукавству противостоит простота, прямодушие, любовь к истине, мужество и, прежде всего, страх Божий. Лукавое слово страдает неопределенностью, неясностью, туманностью выражений, переливчатостью смысла.
Лукавое слово, как правило, соединено еще и с двурушничеством, или словом человекоугодливым, лицемерным. "На языке мед, под языком лед". Человек, который подлаживается под испорченные сердца и правых, и виноватых, всем желает угодить, в том числе (и прежде всего) речами, – называется человекоугодником. Бог рассыплет кости человекоугодников (ср: Пс. 52, 7). Мужа кровей и льстива гнушается Господь (Пс. 5, 7). В речениях из Священного Писания такой человек обычно называется подлым, "не без подлецы". "От тайных моих очисти мя, – молился царь Давид, – и от чуждых пощади раба Твоего (Пс. 18, 13–14). Когда человек согрешает таким образом, он не может отделаться от некоего ощущения гадливости, мерзости, низости, душно становится в сердце.
Чем так согрешать устами, лучше вовсе помолчать, а то греха не оберешься. "В молчании, – сказано, – еще никто никогда не раскаивался". Действительно, часто мы согрешаем именно потому, что не успеваем обдумать свой ответ, говорим впопыхах, лишь бы ответить, лишь бы человек отстал от нас, лишь бы нам выйти поскорей из смущающей нас затруднительной ситуации. Совсем другое дело – взять время на размышление: "Простите, я не готов ответить в эту минуту на ваш вопрос. Разрешите мне подумать. Что толку, если я скажу просто так".
А теперь молвим нечто о слове скабрезном. Синонимы к нему: пошлое, сальное слово, нечистое слово, грязное, по преимуществу блудное – слово, намекающее на чувственность, провоцирующее нападки блудного духа на людей. Все это можно услышать на современной эстраде. И голоса, и интонации, и лексика – все тут одно к одному. Иногда мысль, до удивления лаконичная, повторяется бесконечное число раз: "А он пришел, ша-ла-ла-ла-ла... И она пришла, ша-ла-ла-ла... А он ушел, ша-ла-ла-ла..." Вот так современная "философская" лирика смыкается с любовной.
Православному проповеднику-катехизатору, законоучителю, да и вообще христианину подобает как от огня бежать из той среды, в которой скабрезность, пошлость и сальность являются чем-то обыденным и расхожим. Нельзя дружить с теми, кто любит рассказывать скабрезные истории и анекдоты с растлевающим смыслом. Почему? Да потому, что у такого собеседника в душе остается грязь. Он грязный, бедный, мы его не осуждаем, но ведь от избытка сердца говорят уста (Лк. 6, 45) человеческие, и ты неминуемо запачкаешься в общении с растленным. Бог сказал: "…со строптивым развратишися (Пс.17, 27). Не просто потеряешь праведность, а именно развратишься, растлишься, и только по причине твоего соседства, общения с человеком, согрешающим языком. Другом назовем лишь того, у кого слово целомудренное, чистое, кто, подобно тебе, гнушается всякой мерзости, сальности, нечистоты. Христианин должен брать пример с горлицы, которая никогда не сядет на нечистое место, но будет либо парить в небе, либо прятаться в кроне дерева.
Мы не поем дифирамбы "человеческому достоинству", но у христианина есть определенный знак качества, есть христианское достоинство, которое заключается в нашей близости к Богу, почему Бог именует нас Своими. И хотя мы далеки от чувства превосходства перед окружающими, но, вместе с тем, мы должны открещиваться от всего того, что Бог ненавидит, чем Он гнушается, как сказано: Изыдите из среды их и к нечистоте их не прикасайтесь (см: Откр. 18, 4). И поэтому в личной беседе христианин всегда должен дать понять о своем нежелании слушать пошлости и гнусности. Один раз сказал, и будет!
Конечно, бывают ситуации, которые от нас не зависят, когда по долгу службы или иным каким обязанностям мы оказались в одном купе с любителями "жареного". Тяжелое испытание – быть принужденным слушать нечистое. Но Господь ограждает наши уши, ибо человек, молящийся умом и сердцем, бывает сохраняем от смысла слов, растлевающих сердца.
Если же это произвольное общение, то примиряться с ним мы не должны, а тем паче поддакивать, угодливо улыбаться, ибо после на душе всегда остается ощущение какой-то измены Господу, заповедям и вере нашей.
Осмыслив сказанное, многие из нас найдут, в чем покаяться. Иногда человек и против воли засмеется, когда такая коварная "смешинка" в него проникнет. Мы подобострастны: если рядом каркают – и сам каркать начинаешь; если рядом воют по-волчьи – сам принимаешься поскуливать. Не дай Бог, в вашей студенческой группе окажется Шерхан, а кто-нибудь почувствует себя шакалом Табаки при нем – угодливым поддакивателем. Вообразите картинку: тигр идет среди джунглей, ушами поводит, а сзади шакал приклеился: "И я того же мнения".
И вновь мы в пути, обозревая раздел греховных слов, который можно было бы назвать: ироничное слово, саркастическое слово. Существуют даже целые жанры поэзии, написанной в этом духе. Это так называемые эпиграммы, сатира 42, памфлеты 43, пасквили 44. В древнеримской литературе известны такие обличители, как Ювенал и Марциал. Как правило, сатирики не были нравственными людьми, и избыток желчи изливался у них вовне в весьма острых, ярких, въедливых инвективах, то есть обвинениях. Дух иронии и сарказма – один из самых убийственных, если говорить о пропаганде атеизма, разврата, что, собственно, одно и то же.
Современные богоборцы уже лишены пафоса открытого безбожия, но они часто подтрунивают, пересмеивают, опошляют самую серьезную речь. У них все это является предметом хохмы. В обычном понимании хохма – это шутка, розыгрыш. Но на древнееврейском языке слово "хохма" означает "бытовая мудрость". И вот все "охохмить" гибельно для выступающего, особенно для говорящего перед невинным, неутвержденным детским слушателем. Не дай Бог, ирония, сарказм, едкость станут доминантой в сердце человека! Это бывает по молодости. Обличительное направление, "комплекс Чацкого" – героя, который никого не жалел, всех обливая "горечью презрения". Холодный ум и желчное сердце – этим, собственно, питалось целое направление русской литературы, отданной на откуп революционно-демократической тенденции. "Обличительные" люди не были добрыми личностями. Человек нравственный, т.е. насаждающий в душе добродетели, жалеет, но не жалит. А крепостник, который в карты может с легкостью имение проиграть, напишет о крестьянском страдании целые тома. Некрасов – глубокий, конечно, поэт. Есть у него замечательные произведения, вошедшие в сокровищницу русской литературы, но есть и иное... Человек – большая глубина.
Хотите найти самого желчного писателя в русской литературе? Это Салтыков-Щедрин. Однако и у него найдем одно произведение, из которого видно, что сердце писателя посещала благодать. Подтверждением тому служит его очерк "Христос воскресе", в котором автор с необыкновенной теплотой и сердечной радостью делится своими наблюдениями за праздником Пасхи в русской провинции.
В лучшие свои годы не чужд был благодати и Максим Горький, впоследствии все растерявший. Есть у него повесть "Исповедь" (1908), где им поднята тема искания человеком Бога. Пространно его цитирует епископ Варнава (Беляев) в своей книжке "Жизнеописание схиархимандрита Гавриила Зырянова".
Но об этом сейчас подробнее говорить мы не станем, только еще раз подчеркнем, что нет большей опасности для христианского проповедника, чем дух сарказма и иронии. Он часто провоцируется мысленным превозношением над слушателями. Я – и они! Их много, их лица сливаются в одну массу, а я – один. Воздвиг себе я памятник нерукотворный...
Под конец скажем нечто о ругательном, бранном слове. Это уже не закамуфлированная диавольская стрела, а откровенная отрыжка сатанинская. Это лексикон бесовский, так сказать, язык содомян и гоморрян. Изобретатели матерной брани – не татары. Снимем сегодня с этого малого народа голословное обвинение. Монголы и татары до мата не додумались. Матерная ругань – это бесовщина. И будучи бесовщиной, она представляет собой явление "интернациональное". Но такого мерзкого способа выражения порочных мыслей, как в русском языке, говорят, нет более нигде. Почему? Потому что слишком высоко было поднято наше сознание, получившее от святых Кирилла и Мефодия сакральный, священный язык – церковно-славянский.
Подробно я не буду говорить о происхождении мата, об этом, если желаете, можно прочитать у епископа Варнавы (Беляева) в его книге по аскетике "Основы искусства святости". Сейчас почему-то критикуют этот труд, а напрасно! Как энциклопедия он незаменим. Равным образом нельзя вовсе отрицать значения современной книги Сергея Фомина "Россия перед вторым пришествием". Это своеобразная энциклопедия, хотя материал в ней разнокачественный, требующий критического прочтения. Именно поэтому Издательский Совет Московской патриархии наложил вето на распространение ее в церковных лавках.
В заключение укажем на то, что существует иступленное богохульство. И на Руси матерщинников называли богохульниками. За матерные слова полагалось наказание – гражданская публичная казнь: били кнутами. А за ругань на Пресвятую Богородицу вблизи храма, по положению царя Алексея Михайловича Тишайшего: аще кто учинит ругательство Бога или Богоматери и святых угодников... – полагалась смертная казнь
Не стану говорить об этом подробно, но обращаю ваше внимание, что личности, одержимые бесами и желающие излечиться, т.е. прибегающие к церковным таинствам, к так называемой отчитке, часто и против воли своей изрыгают страшные ругательства в святом месте. Это тяжелое зрелище, и оно дает представление, какую брань дьявол ведет с нами. И для этого он использует в качестве оружия, в частности, матерную ругань. Здесь есть взаимозависимость: человек бесноватый в состоянии исступления извергает эти непотребные слова; и, напротив, человек, произвольно усвоивший себе для красного словца черное словцо, конечно, становится одержимым. Но прежде всего он становится циником в смысле органичной неспособности верить в святое. Святое – это Бог и Божественная любовь; святое – это и брак и человеческая любовь; святое – это чадородие и воспитание детей. Сами тела наши суть храм для Духа, и поэтому в человеке нет ничего скверного, все его телесные члены изначально сотворены всепремудрым Художником Богом и освящены вочеловечившимся Богом.
О чертыхании особенно подробно говорить не буду, потому что само слово свидетельствует о том, кто подселился к вам в момент вашей речи. Некоторые говорят: "Ах, случайно вырвалось из уст!" Случайно такое не вырвется. Если этого у тебя нет в сердце, то и на языке его нет. А если ты споткнулся: "Ах...", – и лукавого склоняешь, то, значит, он там у тебя в меблированной сердечной квартирке прижился. Господи, очисти нас, грешных!
Есть еще особый род грехов, именуемый кощунством. Интересно бы узнать, в качестве домашнего задания, этимологию слов "кощун", "кощунство". Посмотреть, откуда оно произошло. Кощунство – это слово, которое возводит хулу на Бога и Божие, на сакральные предметы и богослужение. Есть кощунство открытое. Кощунник – человек, который в состоянии одержимости поносит святое. По утверждению святителя Иннокентия Херсонского – замечательного, просто небесами одаренного проповедника XIX столетия, скрытое кощунство есть самая страшная тля, растлевающая клерикальную среду. Этот вирус может проникнуть в любое учебное заведение.
Скрытое кощунство – это употребление в бытовом, житейском смысле священных слов и выражений. Примеры этого можно увидеть в книжке священника Михаила Ардова "Мелочи иерейской жизни". Собраны там, конечно, и забавные, как бы невинные рассказы, но все-таки не благоухает эта книга чистотой, не веет от нее духом тишины и мира.
Но чего мы должны особенно бояться – это, конечно, упомянутого греха, переиначивания высоких библейских слов в мирском смысле. Кто в этом погрешает, должен исправиться, потому что это очень заразная вещь. Представьте себе, есть особенный бес-острослов, который помогает пошутить очень кстати и весьма метко, просто, как говорится, "за животик держись".
Как переиначивают церковное? Так, одна бабушка во время пения на литургии Херувимской песни ходила по храму и раздавала всем печенье. Ей говорят: "Мать, ты что делаешь?" А она отвечает: "Ну как же?! Поют же: всякому положи по печению". Так ей послышались слова: "Всякое ныне житейское отложим попечение".
Но это дело невинное, а есть вещи далеко не безвинные. Например, студент, прихватив свой вещмешок, крадется из аудитории за пять минут до окончания лекции. "Ты куда брат? – спрашивают его. "А я – тайнообразующе".
Конечно, необходимо подобного греха избегать и других поправлять.
Тягчайший словесный грех – отречение от Христа. Церковно-канонические правила даже поставляют его как одно из препятствий к принятию священнического сана. Конечно, тут священник-духовник решает, что, когда и как было произнесено устами согрешивших. Правила составлялись в мученическую эпоху, когда со всей торжественностью некоторые люди, помрачившись умом, перед судьями и земными владыками произносили это отречение. Из их числа не должны были быть поставляемы клирики. Да убережет Господь и нас от подобного греха богоотступничества!
Домашнее задание будет особое. Хорошо бы каждый взглянул на себя в зерцале словесных грехов, осмотрел свои язвы и раны. Кто-то просто сделает выводы, а кто-то, может быть, сочтет нужным и полнее, подробнее покаяться и исповедаться. Мы, очевидно, никогда не сумеем все вспомнить и все изречь, почему всякий раз на исповеди говорим: "Каюсь, Господи, и в забытых моих грехах, им же несть числа, словом, делом и помышлением содеянных".
От избытка сердца говорят уста (Мф. 12, 34) – вот слово Живого Бога о речах Его разумных созданий, почтенных даром слова! Вникая в смысл евангельского изречения, мы понимаем, что все наши слова и мысли находятся в зависимости от сердечных чувств, от нравственного состояния человека. Все, что сходит с языка, пронизано, наполнено, а по сути, порождено духом – этой высшей силой нашего существа. Слово – вершина айсберга, дрейфующего в пучине сердца. Слово – лакмусовая бумажка, которая выдает, обнаруживает сокровенные чувствования души, делает их явными и понятными для натур внимательных и проницательных.
По слову, как и по выражению глаз и лица, по осанке и походке, по умению держать себя и общаться с окружающими, по одежде и личным вещам, мы умозаключаем нечто о человеке, вступаем в соприкосновение с его личностью, с его душой – и тайное становится явным (ср: Мф. 10, 26). Человек, обращенный душой к своему Создателю, молящийся Богу, устремляющий мысль сердца своего к Спасителю Иисусу Христу, имеет совершенно особый внутренний мир. Пространство его души – это нерукотворный храм, где все чисто, возвышенно и свято. Истинный христианин и в мыслях непорочен пред Тем, Кто Своим взором испытует сокровенное. Истребляя все худые помышления при самом их возникновении, ученик Христов в словах целомудрен и взвешен, его речь "приправлена благодатью", то есть дышит правдой, чистотой и любовью. Его слово назидает и умиряет, благотворно воздействуя на людей.
Совершенно иная, безотрадная, мрачная картина видится нам при исследовании личности падшей, души боговраждебной, зараженной неведомо для себя общением с демонами. Отдалившись мыслями от Бога, скитаясь помыслами по земле, несчастный человек неизбежно вступает в соприкосновение, а затем и попадает в полное рабство к падшим духам, исступленно ненавидящим святыню. Бедная человеческая душа, находясь во мраке богоотступления, уже не в состоянии отличить бесовские внушения от своих собственных мыслей и отринуть их. Попирая нравственное чувство, растлевая в себе совесть, человек, позволивший возобладать над собой страстям блуда и гнева, гордости и уныния, становится подобен навозной яме, кишащей паразитами. Уста человеческие, которые сотворены Богом для славословия Его имени, превращаются в слив словесных нечистот. Бедствие, великое бедствие, для изображения которого самим апостолам Христовым едва хватало слова, слова богодухновенного! Вот что изрекает по этому поводу святой апостол Иаков в своем послании: Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их; вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает: и язык – огонь, прикраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны; ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию: из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братия мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы: также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду (Иак. 3, 2–12). А святой апостол Павел, обращавший слово к языческому миру, уверовавшему во Христа, предупреждает: Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют" (1 Кор. 6, 9–10).
Совсем не случайным представляется тот факт, что в начале третьего тысячелетия у нас в России открылись таинственные шлюзы, и дотоле сдерживаемые зловонные словесные потоки хлынули, наподобие грязевых селей, в души обывателей. Падение нравов неизбежно влечет за собой умножение хульных и блудных словес – точно так же, как с наступлением темноты появляются на лесных тропах хищные, плотоядные звери в поисках скорой добычи.
Знают ли наши любители сальных острот, ради красного словца не брезгующие употреблять словцо черное, что отвратительная матерная брань с древнейших языческих времен была гнусным средством призывания "племенных божеств" – демонов, будто бы готовых защитить своих почитателей от духов – покровителей соседнего племени?
Знают ли современные жалкие потомки наших благочестивых предков, что еще во времена российского государя Алексия Михайловича Тишайшего тот, кто осквернил свои уста матерной бранью, подлежал немилосердной порке на городской площади при всем честном народе; а тот, кто дерзнул бы скверно выругаться вблизи храма Божия, мог и вовсе лишиться головы? Ведомо ли несчастным сквернословам, что русский православный люд всегда называл таковых (и справедливо!) антихристами и богохульниками, не имеющими за душой ничего святого?
Сознают ли потерявшие совесть и честь духовные манкурты 45, что, изрыгая словесную скверну, они кощунствуют над Пречистой Богоматерью, глумятся над собственной матерью, оскорбляют и мать сыру землю, из которой взяты, но которая не хочет принимать врагов Божиих обратно в свои недра?
Грех сквернословия, вошедший в мозг, кости, душу бедного грешника, завладевший его сознанием и помыслами, потребует последовательной решительной борьбы, если только мы не хотим, чтобы он был причиной отвержения нас Христом Богом на Страшном суде и вечного мучения с демонами в геенне огненной. Осознав мерзость привычки осквернять мысли и язык бранью, внутренне должно отречься от нее, причем так решительно и энергично, как если бы мы, увидев ползущего по нашей одежде ядовитого скорпиона, сбросили бы его, не медля ни секунды, в огонь.
Объявив войну пороку, который послужил причиной стольких несчастий в жизни окружающих людей, домочадцев, не говорю о нас самих, необходимо принести Господу Богу, пред лицем православного священника, глубокую исповедь, слезно каясь во всех ведомых и не ведомых нам последствиях этого гнусного греха.
Освящение уст и сердца, исцеление изъязвленной души сквернослова свершает Божия благодать через преподаяние покаявшемуся грешнику Святых Пречистых и Животворящих Христовых Тайн, по усмотрению священника, который принимает нашу исповедь.
Никак нельзя забывать о плодах примирения с Богом. Это – совершенный отказ от брани, истребление самого скверномыслия, что невозможно без содействия Божия, привлекаемого всегдашним вниманием, самособранностью христианина в общении с людьми.
Полное освобождение от страсти сквернословия наступает тогда, когда внутренний мир, сфера сознания человека заполняются молитвой к Богу, мысленным призыванием всесвятого имени Господа Иисуса Христа. Как свойственно огню сжигать без остатка хворост и солому, так постоянная молитва и самая память о вездесущем Творце, Спасителе и Судии нашем постепенно очистят душу обратившегося к Матери-Церкви и возвратят ему чистоту помышлений.
Если рассуждения пастыря помогут кому-то освободить свою жизнь от тяжкого гнета – привычки употреблять грязные и грешные, пошлые и ушлые словечки – то и будет благо! Если же наше слабое слово покажется кому-то неубедительным, подумаем, что сквернословие – это всегда соблазн, особенно пагубно воздействующий на малолетних. А по свидетельству Господа Иисуса Христа, имеющего судить живых и мертвых, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской (Мф. 18, 6).
Главным положением нашей беседы я хотел бы сделать следующий тезис: слово, обыкновенное человеческое слово, исходящее из уст, – это своего рода "лакмусовая бумажка", по которой определяются как здоровье, так и нравственные недуги личности, ее болезни, "курские аномалии" души. Многое можно узнать по этой "бумажке", если за дело берется специалист.
Никто не будет спорить, что в жизни педагогов слово может быть и пластырем, и скальпелем, и оружием, и букетом цветов. Со своим назначением справляется то педагогическое учреждение, которое выпускает из своих стен молодых специалистов, владеющих словом. Не стану погружаться в отвлеченные рассуждения о достоинстве ораторского слова, но нарисую вам, используя вместо красок слово, некую радугу, конечно же, семицветную. И запечатлею ее не на листе бумаги, а на чистом полотне ваших сердец. А каждый из нас пусть подумает, какой цвет ему соответствует, на каком словесном уровне он находится.
Уровень первый, в моем понимании, самый низкий, определяется словосочетанием черное слово. Второй, чуть более высокий, именуется праздным, или пустым словом. Далее цвет меняется с черно-серого на более светлый, как бы изнутри озаряется светом.
Третий уровень, на котором ваш покорный слуга хотел бы находиться постоянно, не опускаясь ни на этаж ниже, – теплое слово. Заранее декларирую: кто после перечисления мною семи словесных уровней без запинки сможет повторить все услышанное, тот не просто является психически здоровой личностью, но и заслуживает наименования вундеркинда.
Четвертый уровень – золотое слово. От теплого к золотому – один шаг.
Пятый уровень – красное слово, слово прекрасное, слово поэтов и трибунов, покорявших своей речью племена и народы.
Шестой уровень – головокружительная, звездная высота: вещее слово. И, наконец, седьмой уровень – выход на околоземную орбиту и вообще за пределы видимого мира, в вечность, в мир духовный – святое слово.
Поразительно, какая полярность: от черного – до святого!
Теперь я постараюсь дать краткую характеристику каждого из словесных уровней, а вы, как птички-невелички, которые, словно ноты-осьмушки и четвертушки, сидят на проводах – нотном стане, примеривайтесь – кому куда. Разобраться в этом поможет совесть – самый строгий и нелицеприятный судия. Пусть каждый из наших слушателей превратится в диагноста, доктора Айболита для самого себя, и выберет свою словесную нишу. Попутно мы будем рассуждать о духовном здоровье и нездоровье, потому что наше слово, как мы еще не выяснили, но предположили, – это "лакмусовая бумажка", симптом, свидетельство о том, что сокрыто в бессмертной человеческой душе и гнездится в смертном нашем теле.
Черное слово – это вербальный вирус и, естественно, заразный. Передается он не путем капельной или иной какой инфекции, но через слух. Черное слово, поселившись в ментальном пространстве личности, начинает производить там свою разрушительную работу, причем совершенно неприметно для инфицированного человека. Приметим, что черное слово может вползти в избушку нашего сердца еще в ребяческом возрасте. Привившись, не будучи вовремя исторгнуто, оно пускает корни. Речь, загрязненная руганью, показывает, что болезнь вошла в силу.
Самой пагубной разновидностью чернословия является, без сомнения, матерная брань. До революции – не культурной, а той, "великой" по своим беззакониям (имя ее, по счастью, уже стерто со скрижалей нашей истории вместе с уничтоженным днем гражданского праздника) – матерное слово именовали богохульством и кощунством. От человека, изрыгавшего подобную словесную блевотину, нормальные люди отшатывались, потому что он "в Бога ругался", потому что он попирал самое святое, что есть у каждого на земле, – собственную мать, его родившую!
Черные слова, свив гнездо в человеческой душе, формируют в ней особое нравственное, а точнее, безнравственное состояние, имя которому – цинизм. Цинизм! Он тождествен вытравлению, атрофии нравственного чувства, что называется в Священном Писании "сожженной совестью". Цинизм познается в неспособности верить в возвышенное, идеальное, святое. Цинизм обозначается плевком через щель передних зубов как реакция, отклик личности и на героическое, и на трагическое... вот так – одним движением языка и губ! Что и говорить, очень, очень не хочется, чтобы кто-либо из нас попал в сию словесную колею, задержался на этом уровне. Это даже не уровень, это – андеграунд! Да, находящиеся в подобном темном состоянии пишут ныне свои "Записки из подполья". Речь идет о сознании блатном, уголовном и соответствующем ему лексиконе. Урка, социально близкий красным комиссарам, прекрасно владел этим языком.
Очень важно понимать, что вошедшее в сердце черное, грязное, греховное слово делает человека не способным любить. Любовь – состояние высокое, жертвенное, умягчающее и облагораживающее сердце. Как белокрылая горлица чурается грязи, так и любовь не выносит и единого мерзкого, нечистого слова. Вот почему девушкам запросто можно разобраться в том, от Бога он или нет в ее судьбе. Он это или не он? Диагностика происходит на уровне лексики. Если он, милый, смотря ей в глаза, в ее присутствии оскорбляет небо и землю, деревья, листву, цветы и птиц, а главное, душу человеческую циничным словом – это не он. Если же девица – Эллочка-людоедка с подобным лексиконом смотрит зазывающим образом на старооскольского Леля, пусть он бежит от нее со всех ног: ведь эта дива – Яга, будущая старуха Шапокляк! Впрочем, старуха Шапокляк была приличная женщина, только обиженная судьбой. Итак, братцы мои, признавайтесь сами себе и бегите на исповедь, кто замарал свой язык, речь, мышление словесной грязью, притом еще и оправдывается: "Батюшка, я в школе слишком хорошо учился, поэтому знаю "Поднятую целину" наизусть, а там что ни слово, что ни страница, то ненормативная лексика. Батюшка, у нас министр культуры – не нынешний, а прошлый, тоже матом ругался"... Увы, друзья, всех слушать – с ума сойдешь! Сегодня, если хочешь отстоять свое психическое здоровье и право на счастье, необходимо быть критически мыслящей личностью. Не такой, однако, как Чацкий, который обливал всех презрением и носился с собой как с писаной торбой, вращаясь вокруг оси собственного эгоизма. Но нужно быть действительно самостоятельной мыслящей личностью, понимающей разницу между тем, что такое "хорошо" и что такое "плохо".
Давайте же скорее перебираться наверх и сядем на следующую жердочку: пустого, или праздного слова. Оставим за и под собой все черные слова, так называемую подзаборную лексику, многоступенчатые синтаксические конструкции, или, как называет их Священное Писание, "глаголы потопные". Они не для нас и не для наших детей. Сядем на вторую ступеньку, поднимемся хотя бы на малую высоту.
Слово пустое, или праздное. Слов исходит из наших уст за день – миллион. Мы даже не в состоянии подчас подсчитать их, а тем более проанализировать. Знаете ли вы, что по данным медицинской науки люди заболевают гриппом, в частности, потому, что они руками все время хватаются за лицо. Ученые подсчитали, что за день мы прикасаемся к своим щекам, лбу, глазам, губам, ушам более трехсот раз. Часто именно через пальцы в организм входят бактерии и вирусы. Так вот, если едва поддаются учету тактильные прикосновения, то слова тем паче.
Празднословие. Что это такое – пустое, или праздное слово? Это слово, лишенное соли; слово, лишенное смысла; слово, произнесенное просто так, for fan, от нечего делать! Все лопочут, и аз с ними. Празднословие – это мутный многоречивый поток, в который мы вливаемся своим маленьким ручейком спозаранку и плывем по нему до позднего вечера. "В многословии не избежишь греха", – сказал библейский мудрец царь Соломон. Потому что, если слово рождено праздностью, оно так или иначе всегда затронуто человеческими страстями: амбициями, обидой, мнительностью, ревностью, сарказмом, иронией, чувством собственного превосходства, всегда ложным. Празднословие часто провоцируется хандрою, печалью, "онегинским сплином". Празднословие – это что-то совершенно безразличное для большинства людей, но не для Того, Кто дал нам слово. Раскрыв Евангелие, мы услышим слова, исходящие из уст Того, Кто не говорит неправды: Истинно, аминь, глаголю вам: за каждое праздное слово дадут человецы (люди) отчет в день Суда (Мф.,12,36). Есть высший суд, "он не доступен звону злата", и пусть дрожат "наперсники разврата": хотят они того иль нет, пред Богом им держать ответ. Слова и мысли наши в реку забвения не канут.
Дорогие друзья, я хотел бы дать вам маленький рецепт, как избегать празднословия, ибо оно, как мы с вами выяснили, не безвинно: опустошая, делает праздным и пустым человеческое сердце. Празднословие всегда рано или поздно по сцеплению ассоциаций приведет нас к осуждению, а осуждение и злословие – это, между прочим, смертный грех, в котором можно и должно покаяться, но, будучи застигнутым в котором внезапной кончиной, несчастный человек (о, ужас!) лишает себя вечной жизни. И тот, кто хочет избегать слов пустых, дурных, праздных, пусть вооружится следующим правилом: помни, что говоришь; помни, кому говоришь; помни, где говоришь; помни, зачем говоришь; помни, какие из того могут быть последствия. "Ой, батюшка, это так сложно – все время помнить об одном, другом, третьем, да и ваше правило записать со слуха невозможно! Можете покороче сформулировать?" А почему нет? Помни: что, зачем, где, когда говоришь и какие из того могут быть последствия. На самом деле только первые полдня ты пыжишься, тужишься, стараешься анализировать свою речь, а уже в послеобеденное время вошла в тебя эта нравственная установка – и ты, всемирно известный болтун, шалопай, празднослов, краснобай, становишься... Диогеном. Кто такой Диоген? Крупный политический деятель старооскольской эмиграции? Диоген – это древнегреческий философ (404-323 гг. до н.э.), который сидел в бочке, всем был доволен, у него не было никаких особенных потребностей, кроме общечеловеческих. И как-то, зажегши фонарь, он появился при свете дня на базаре и, высоко подняв его, сказал: "Ищу человека". Искал человека, искал нравственных личностных качеств. А Фома Фомич Опискин – родственник Диогена, седьмая вода на киселе, своему служке, мальчику на побегушках, говаривал: "Я люблю человека... но покажите мне этого человека!"
Итак, дорогие друзья, праздное слово опасно тем, что из-за него происходят очень многие ссоры, оно провоцирует даже трагедии. Самая крепкая дружба не выдерживает празднословия. Его помогают преодолеть несколько переиначенные старинные пословицы: "Слово не воробей (это из кабинета ректора выходит предупреждение), поймают – вылетишь". А не в меру речистые учащиеся в Старом Осколе, если не соблюдают правил против празднословия, могут стать предметом иной пословицы: "Дальше едешь – тише будешь". То есть, сошлют тебя за длинный язык в зону вечной мерзлоты – авось, тише будешь.
А теперь третья высота – теплое слово. Этого дара нынче днем с огнем не сыскать, потому что давно уже на Смоленском кладбище нашла место своего упокоения Арина Родионовна, давно уже мы не слышим голоса няни, которая утешала Татьяну Ларину, возвратившуюся с прогулки со рдеющими щеками и признанием на устах: "Ой, плохо мне, душа моя в огне! Ах, няня, он не смотрит на меня"... Она ее усаживала на сундук в своей светелке и говорила: "Ну, успокойся, девочка моя, вот крынка молока, попей немножко, глядишь, сойдет с тебя печаль". – "Ах, няня, ты меня не понимаешь" 46. И вот уж нет этих нянь, не видно и патриархально настроенных бабушек. Бабушки есть, но они погружены в телесериалы мексиканского производства, и поэтому им просто не хватает времени для того, чтобы поделиться с внучатами опытом своей жизни. Уже никто из взрослых не говорит юным: "Утро вечера мудренее, ложитесь-ка спать, ведь завтра будет день опять".
Теплое слово... Почему свершается столько разводов у нас в России? Да потому, что не владеют теплым словом ни муж, ни жена. Потому что они напоминают собой рыцарей Алой и Белой розы, для них супружество подобно ристалищу. Съезжаясь на этом поле битвы, закованные в латы, они скрещивают супружеские копья. Удар, еще удар, "ура, мы ломим, гнутся шведы"... А вот если бы у него нашлось теплое слово для молодой, здоровой, красивой, но нервозной жены, то ее взвинченное состояние можно было бы снять в два счета, даже не будучи психологом-специалистом.
Что говорить о женщине... Пришел муж – угрюмый, понурый, сокращенный с должности. Как князь восточный, смотрит в одну точку степным волком Германа Гессе. Если у нее, у женушки, есть теплое слово в запасе, так она сразу же возвратит ему присутствие духа: "Месяц мой ясный, сокол прекрасный, что ты кручинишься? Садись скорее. Все готово: вот оладушки, квасок. Вкуси же, с Богом", – и погладит его по маковке. Конечно, в таком случае ни ссор, ни недовольства, ни словесных перебранок и близко не будет.
Ах, теплое слово! Я думаю, что это главный фактор в воспитании детей.
И мы, батюшки, тоже ценим теплое слово, мы тоже в нем нуждаемся. Я вот недавно попал в зубопротезный кабинет к женщине-врачу. Она так удивилась, спрашивает: "Почему вы сюда пришли?" Я отвечаю: "Почему нет? Я человек, и мне ничто человеческое не чуждо". А она говорит: "Мы думали, что священники не болеют и по врачам не ходят". Вот такое возвышенное представление! Почитание духовенства заложено в генетическую память русского народа. Итак, когда я очутился у дантиста в кресле, и, видя меня, словно зажавшегося в норке тушканчика, она сказала: "Милый батюшка, все будет хорошо. Капитан, капитан, улыбнитесь", – эти ее добрые слова действительно сняли страх и стресс. Эх, кабы в наш жестокий век теплое слово одушевляло уста воспитателей!
Однако идем в наших рассуждениях дальше. Мы сказали о черном слове, праздном слове, теплом слове. Теперь пришла пора сказать и о золотом слове. Можете ли вы, дорогие друзья, сейчас сходу, экспромтом, вспомнить устойчивый фразеологический оборот, в котором прилагательное "золотой" является ключевым словом? (Реплика из аудитории: Молчание – золото.) Не золото как металл, материя, а именно как прилагательное "золотой". Но опять же, не в смысле – золотой рубль. (Реплики из зала: золотое сердце, золотые руки). Вот это прекрасно! Подарок царский! Вы знаете, во времена д'Артаньяна мушкетеры расплачивались мешочками, в которых было по сто золотых экю. Вот за этот золотой ответ вам сто золотых экю. (Батюшка дарит студенту мешочек с конфетами в золотых обертках.) Можете раздать, кому хотите. Имейте в виду, что это конфетки не простые, эти конфетки золотые, они снимают стресс. А если перед экзаменом такую конфеточку под язык положить, то готовиться практически не нужно: всего лишь два-три вечера провести – и успех будет на вашей стороне!
Итак, золотое слово. На мой взгляд, это слово в высшей степени компетентное. Золотым словом обладает профессионал, человек с большой буквы в избранном им призвании. Золотое слово дается тому, кто любит свою профессию, свою специальность и овладел, может быть, еще и смежными областями знаний. Мастер своего дела знает сущность предмета, может его исследовать и сверху, и снизу, и подойти с бочка. Золотое слово – это слово того, кто не только приобрел знание, но может поделиться этим знанием, передать его. Docendo discimus – уча, мы учимся сами. Золотое слово всегда простое и ясное. И по слову мы как раз определяем: дилетант человек, разнорабочий, чернорабочий в своей профессии, или он достиг "степеней известных"... Думаю, что для учителя это очень важная характеристика. Золотое слово – это слово правдивое, чуждое лести и лжи. Это слово, которое просвещает, издает некий свет, незримое сияние. Слыша золотое слово, твой собеседник говорит: "Эврика! Я нашел, я увидел, я услышал то, к чему давно стремился, но чего ни за какие коврижки ни купить, ни сыскать не мог".
С четвертой ступени – золотого слова ступим на пятую – в область красного, или прекрасного слова. Мне кажется, что красное слово отражает определенную фазу нравственного развития личности. В широком понимании – это слово человека, утвердившегося в добре; слово человека, который ведет брань со злом в недрах собственного сердца. Конечно, это слово человека, который уже превратился в сеятеля, стал способным сеять "разумное, доброе и вечное".
К этой категории нужно отнести и слово, не лишенное художественности, несущее художественный образ. Красным словом владели мудрецы, учителя человечества, часто в афористичной форме они выражали свою мысль, которая, пережив их самих, запоминалась последующими поколениями. Красное слово имеет необыкновенную власть над человеческой душой, потому что это слово прекрасное. Мы с вами уже обмолвились о женихе, выяснили, что он не хам, не неандерталец, не гуманоид, изрыгающий всякие допотопные слова. Но жених должен уметь не просто "to produce an impression" – произвести впечатление, но и найти для своей избранницы особые прекрасные слова, например, похожие на пушкинские: "Я вас люблю, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она пока вас не тревожит (до получения диплома), я не хочу печалить вас ничем". Она его спросит: "Ты откуда такой взялся?" Он скажет: "Я с вертолета по веревочной лестнице к вам спустился, как лучик золотой".
Итак, красное слово – это определенный итог благородной, творчески насыщенной жизни. Искусственно изобретать это слово нет нужды, высасывать из пальца мудрость ни к чему; но сам накопленный опыт, жизнь, отданная Богу, Отечеству, людям, приведут нас к тому, что мы и не задумываясь будем говорить слова ясные, важные, глубокие, истинные, пронизанные теплом нашего сердца. Они облекутся в соответствующую форму и станут достоянием тех, кому наше слово не безразлично. Уже не перефразируя, напомню вам прекрасные слова Александра Сергеевича Пушкина, знакомые в России каждому школьнику: "И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я Свободу и милость к падшим призывал".
Наконец поднимемся на высоту вещего слова. Думаю, было бы наивно и совершенно близоруко считать, что вещему слову можно научиться. Вещие – это не просто проницательные слова, они несут в себе таинственный духовный смысл и часто предрекают, прогнозируют, предугадывают то, что еще не свершилось. Полагаю, что человек становится способным к вещему слову тогда, когда он восходит на высоту нравственного подвига, когда он приносит самое дорогое, что у него есть, – жизнь в жертву высокой идее, когда он отдает всего себя людям. Слова наши бывают тогда вещими, когда Сам Бог вкладывает их нам в уста. Каждый из нас хоть одно вещее слово да произнесет. Это свершится, когда мы будем изрекать нашим детям последнее слово. Говорят, что слово умирающего есть слово заветное, подлежащее исполнению, и нельзя ослушаться этого слова тому, кому оно предназначено. Человек, находящийся на грани между миром видимым и невидимым, между земной жизнью и вечностью, произносит слово. Некто сказал: "Люди, будьте бдительны!" – и скончался. "Любите друг друга", – и отошел в вечность. Я, еще будучи десятиклассником, слышал вещее слово, когда моя бабушка (имя ее было Любовь) отходила к Богу. С совершенно ясным взором она, прощаясь с нами, внуками, шепнула: "Как бы я хотела, чтобы вы выросли хорошими людьми". Больше ничего не сказала, да мы и воспринять ничего более не могли бы. Но ее завещание живет в моей душе и напоминает о том, что мы созданы для добра, для созидания, а не для разрушения, для дел благих, а не темных...
И последнее: святое слово. Это то слово, которое соединяет небо и землю, низводит на нас Божье благословение. Такое слово всякому по плечу, лишь бы только было произносимо из глубины искренне верующей, любящей души. Но прежде чем привести несколько примеров на это положение, я вам напомню стихотворение Лермонтова, а вы мне скажете, что он имел в виду в строчке, которую знает всякий уважающий себя будущий педагог: "В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть". Вопрос: какую именно молитву имел в виду Михаил Юрьевич Лермонтов? (Реплика из зала: Отче наш). "Отче наш"? Может быть, но мне кажется, что "Отче наш" – молитва достаточно пространная, она состоит из семи прошений, притом что "в минуту жизни трудную", когда "теснится в сердце грусть", ты не произнесешь эту пространную молитву, она требует спокойного сердца. Я предполагаю, но не настаиваю на правоте своего утверждения, что поэт от бабушки, безмерно его любившей, воспринял молитву, которую она пела над ним, как многие матери и няни это делали и делают до сих пор, успокаивая его после ярких дневных впечатлений и готовя ко сну. Есть такое выражение "всосать благочестие с молоком матери". Что это значит? Это значит, припадая к материнской груди, еще малышом-голышом слышать эту дивную молитву. Вот, например, у вашего старооскольского батюшки, отца Сергия, с матушкой десять человек детей. Один играет на флейте, другой на фаготе, третий на валторне, четвертый решает задачки по математике без счетно-вычислительной машинки, пятый... в общем, каждый имеет талант. Вот и спрашивается: почему у этого старооскольского батюшки такие талантливые дети, притом, не невротичные и не эгоистичные? Ответ один: восприняли благочестие с молоком матери. Каким образом? Матушка, укачивая их, пела им не просто какую-нибудь песенку – "А я иду, шагаю по Москве, и может быть, еще пройду", – а ту самую молитву, которую Михаил Юрьевич с помощью бабушки выучил. Между прочим, вместо того, чтобы по-стахановски малыша укладывать, орудуя им, как отбойным молотком, вместо того, чтобы подбрасывать его (почему-то считается, что кинетическая механическая энергия должна при этом перейти в легкий сон), можно спеть всего лишь единожды эту молитву: Богородице, Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою... Не успели вы допеть ее до конца, ребеночек уже посапывает, схватив указательный пальчик, чмокает, и закатный солнца лучик золотой через тюлевую занавесь освещает вьющийся локон над розовым ушком. Святые слова... Чудеса!
Может быть, кто-то из вас мучается кошмарными сновидениями, ужастиками, плохо засыпает? Повторяйте эту молитву, она поможет и вам. Ибо молитва воссоздает духовную структуру личности.
Знаете ли вы, дорогие друзья, чего больше всего мы, родители, опасаемся, когда утром отправляем детей в школу? Ведь современному Гекльберри Финну уже не терпится вырваться из отчего дома навстречу компьютерным шалостям, всяким дикостям, школьной стрелке, в которой он будет принимать самое деятельное участие. Представьте себе: молодая мама, двадцатишестилетняя старооскольская красавица, родившая в свои девятнадцать лет в законном венчанном христианском браке милого Сереженьку, отпускает его в школу, в это подростковое царство, где выживают сильнейшие. В курсе ли современные родители, какой язык служит нашим детям средством общения? – Метод тыка и междометия: "Ну, ты, псих, подвинься!" А Сережа все-таки получил хорошее воспитание; мама – выпускница педагогического университета, она ему читает классические сказки – про Дюймовочку, про Золушку. И вот ее Сереженька, мальчик с золотистыми волосами и озорными веснушечками, должен попасть в одну клетку с тигрятами и львятами. Как она его туда отпустит? Что она ему скажет? Не только скажет, но и осенит его по-матерински троеперстием: "Сереженька, милый мой, Господь с тобой. Пресвятая Богородица, спаси и сохрани мое чадо!" Да попросту поцелует его в щечку во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. А не так, как некоторые современные мамаши от избытка нежности прямо в уста целуют малыша. Это не этично, это не целомудренно, неправильно.
Святое слово... Если вы хотите, чтобы каждый день за спиной у вас были раскрыты крылья, чтобы жизнь была прекрасна, если вы хотите чувствовать вдохновение, все воспринимать светло, мажорно, в каждом человеке видеть ту или иную добродетель, драгоценное нравственное качество, чтобы у вас была душа нараспашку в лучшем смысле этого слова – для этого нужно, встав утром, сердечно произнести слова: "Господи, слава тебе!" А вечером, отходя ко сну, по-детски помолиться: "Господи, благодарю тебя за прожитый день. Благослови меня на наступающую ночь!" И так, во всем стараясь избегать греха, освящать свою жизнь призыванием имени Всемогущего и Всесвятого Бога.
Дай Бог, чтобы мы с вами мало-помалу поднимались от низшего к высшему, от худшего к лучшему, от земли к небу, памятуя при этом, что у нас на земле остаются еще очень важные задачи, которые ждут своего решения.
Итак, мы беседуем о технических средствах, необходимых для нашего словесного искусства. В прошлый раз мы говорили о том особом усилии любви, какое мы должны вкладывать в звучание нашей речи. Говорили об артикуляции, т.е. о том, как важно, чтобы каждый звук произносился членораздельно, чтобы каждое слово было как бы ограждено заборчиком и, как гвоздь или как камешек в мозаике, становилось на свое место. А теперь в фокусе нашего внимания будет не менее важный предмет, а именно интонация проповеди, лекции, выступления. А в конце, если успеем, поговорим о звучании, о силе или о громкости проповеднического и учительского слова.
Интонация есть первая проводница и лоцман для внимательного собеседника. Ей можно было бы написать оду или гимн. Я бы назвал ее кровью, разносящей питательные вещества по всему организму. Интонация в техническом смысле одушевляет вашу речь. Либо это какое-то унылое постукивание отдельных костей скелета, либо перед вами жизнь во всех ее проявлениях.
Об интонации можно много говорить, но начнем с существенного. Интонация часто, хотя и не всегда, выдает духовный строй человека или то, что называется конституцией, устроением его души, складом личности. Если перед вами человек, у которого мышление словно застегнуто на все пуговицы, как мундир, если он, в общем-то, перестал уже размышлять о тайнах бытия, если жизнь для него уже не таит в себе неожиданностей, а мир во многом обесцветился (он воспринимает его в черно-белом варианте), если для него педагогика – это уже накатанная дорожка (есть план лекций, и ее конспекты, и дополнительная информация), и он вам механически рассказывает, то монотонность интонации, крайняя скудость в выборе интонационных средств выдает человека либо равнодушного к предмету, либо уставшего от своего педагогического дела: Ну как же вы мне все надоели. И вот, когда человеку уже все приелось и он просто отчитывает свои часы, да еще приписками занимается, то тут жди монотонной интонации. Тут проявляется равнодушие к своему предмету, либо просто неопытность, неумение размышлять. Для такого человека проповедничество – ремесло, но не искусство, не творчество, а лучше сказать, не дело Богоугождения. А мы вспомним апостола Павла, который называл проповедь священнодействием. Священнодействие проповеди – этим все сказано.
А теперь давайте-ка поразмышляем, чего не должно быть в интонации. С монотонностью ясно – это убийство слушателя. А еще не должно быть ложных интонаций, не должно быть ложного пафоса, не должно быть искусственной патетики, не должно быть соцреализма, который тщился изображать действительность такой, какой она должна быть, а не такой, какой она является на самом деле. Вот эта ложная патетика – враг многих проповедников, может быть, тех, кто более овладел приемами и искусством речи, а менее живет духовной жизнью. Тут надо, конечно, вам показывать больше, чем рассказывать, а показывать – это не значит осуждать, это значит вразумлять. Вот различные примеры екоторых интонационных клише, которые, не дай Бог, кто-то усвоит себе. Есть свои клише и на учительских кафедрах в школе: Здравствуйте. Садитесь. Семенов к доске.
Итак, какие случаются искушения в плане интонации у проповедников, говорящих с церковного амвона. Например, есть слезливая мелодраматическая интонация, которая тщится изобразить полноту переживаемых чувств. И такая интонация просто рвется в небеса, дабы поделиться некоторым восторгом, высосанным из пальца: Братья и сестры! – прямо сходу оседлал Пегаса. – Братья и сестры-ы-ы..., – немножко так растянуто: тры-ы-ы.... Сегодня... – прямо хватаешься за сердце, – ...завтра... две Божественных литургии, ранняя в семь часов, а поздняя в десять часов. Да. На грядущей седмице особых праздников нет…, – какая-то даже радость, что нет праздников, и ходить не надо,– а завтра… На самом деле это не так, потому что литургия – это такое событие, ради которого и приползти можно на четвереньках, как говорит преподобный Серафим: Хотя бы ты был весь изъеден червями, и то на литургию ползи. А тут не одна, а целых две литургии: ранняя и поздняя. На первой можешь исповедоваться, а на второй причаститься, а можешь на обеих молиться, сначала на клиросе, а потом еще где-нибудь. Спаси вас, Господи! – искренно отвечает народ, потому что при антихристе-то будет уже не две литургии, а одна, да и то где-нибудь в подземелье; а тут целых две, какое богатство.
И вот такая патетика – это плохо, многие даже отмечают, что она была свойственна иным пастырям в период советской жизни, когда Церковь была скована по рукам и ногам во внешнем проявлении, и даже отдельные темы были исключены из проповеднического каталога: ни апологетической, ни обличительной, а только пересказ священной истории.
По поводу интонации при пересказе священной истории тоже надо высказаться отдельно. Вот вам пример: прочитано Евангелие, выходит батюшка, рассказывает: Мы с вами слышали сегодня, братья и сестры, повествование о воскрешении сына вдовы Наинской. Все вы хорошо знаете это повествование, которое содержится у евангелиста Луки. Сын вдовы Наинской был сначала жив, потом умер, а когда умер, тогда Господь его и воскресил, о чем вы все слышали.... Это я, конечно, утрирую, но о страшных чудесах Богочеловека Иисуса Христа какой-то обыденной интонацией повествовать – это, кажется, согрешать тем же фарисейством, которым согрешил известный служитель синагоги. Вот он, наверное, тогда и сказал: Приходите исцеляться во все дни, кроме субботы, с восьми утра до шести вечера. Зачем в субботу пришли с больными? Исцеляться будете завтра, в первый день от субботы. А Господь говорит: Лицемер! – потому что кто же тут исцеляет, кроме Него, Господа? –Упавшую овцу или осла ты вытащишь, наверно.... Тут обыденная интонация – нам не друг, а враг.
А какою же должна быть интонация? Мне кажется, что интонационному богатству мы должны с вами учиться у мира Божьего. Вот, пожалуйста, посмотрите на город, какое богатство красок и настроений даже в нашем смоге. Тут вам и голубизна небес, и легкое перистое облачко, а там где-то розовая дымка, и храм Христа Спасителя червонным золотом сияет и взоры наши утешает, а там где-то сзади красный, багряный убор осенних скверов и бульваров. Такая нежная гамма: и золото листвы, и темно-зеленые ели, и бархатистые коричневые шишечки. Да как между собой все сочетается, а вместе с тем и не сливается! И вот интонация, если она правдивая, если она органична человеку, если она исходит из недр души – безусловно, прежде всего, когда речь идет об устном проповедовании – более всего свидетельствует с технической стороны о духовной жизни. Потому что, как мир многообразен и прекрасен и как мир нам никогда не наскучит (даже человек умирающий, вроде бы, что ему уже надо? и то он не в силах расстаться с этим многоцветием земли), так многообразно и наше слово. Оно же тоже живописует, оно тоже на сердце полагает какие-то мазки, и наше слово должно отражать богатство внутреннего мира, мира сердца. А там ничего нет затверженного, ничего заученного. Православие – ведь это же не система ограничений! И если уж древний грек какой-нибудь выходил на высоту Акрополя, смотрел на звездное небо – и вся греческая философия воплощалась не в предложении, не в слове, а лишь в одном звуке, междометии: О-о-о! Как удивление перед миром: О-о-о.... А что же православный-то? Он что, "без божества, без вдохновенья, без слез, без веры, без любви"? И, таким образом, как Бог является паки, несет нам пакибытие и дарует нам полноту жизни, так, стало быть, в слове богатство интонаций является первейшим средством к назиданию, освежению, услаждению, просвещению и прочим благодатным действиям на слушателя.
Обобщая пройденный материал, можно сказать, что интонация – это одно из лучших свидетельств опытности, равно как и неопытности проповедующего. Владение интонацией показывает не только человека живого, непосредственного, чуждого формализма, механичности в искусстве проповеди, но и человека, имеющего внутреннюю жизнь. Как бесконечно многообразный и красочный мир Божий являет нам втайне присутствие Бога, так и богатая, естественная, а главное, правдивая интонация нашей речи имеет способность не только освежать и доставлять отдых слушателям, но и приобщать их к тем духовным сокровищам, которыми, как предполагается, владеет выходящий на помост трибун, оратор, проповедник, в широком смысле – поэт. Помните, мы говорили, что греческое слово "поэт", "поэзия" переводится как "действие, изменение". Поэт – это тот, кто изменяет мир. Именно такого поэта в широком смысле хотят видеть люди в проповеднике слова Божия.
Что еще можно сказать полезного об интонации? Мы обличили и сентиментально-мелодраматический пафос, обличили и монотонность, обыденность, всегда ложную, когда речь идет о размышлении над Евангелием. Кратко говоря, с помощью интонированной речи вы приобретаете себе друзей. Не размышляя же о воздействии интонации на психологию человеческую, вы из союзников делаете себе врагов.
Остается, наверное, последний, очень важный вопрос. А как по существу прикоснуться к тому богатству? Если так страшно сфальшивить и быть не подлинным в разговоре с людьми, то как овладеть этой настоящей, живой интонацией ради пользы дела? Ведь в аудитории любой возрастной категории у нас есть возможность как победить, так и потерпеть поражение. С детьми, например, нехорошо сюсюкать. А это такая свойская, и потому привлекательная интонация – сюсюкание. Там такие богатые мелодические ходы: У-у, ты моя тютелька, тю-тю-тюлечка..., – и пошло-поехало. Или, когда раньше хотели пристыдить старшеклассников или студентов, то говорили с нажимом: Вы – комсомольцы! Для нашего же времени в отношении выбора верного тона сложность в том, что люди успели отвыкнуть (по вине, прежде всего, вездесущего телевидения и изменившегося стиля и духа взаимоотношений) от непосредственного живого, бескорыстного дружеского общения. Такое общение сейчас подменяется всевозможными дикторами, лекторами, учителями либо развязностью: Вы слушаете радиостанцию "Серебряный дождь!" – мне трудно, конечно, это изобразить. Эти прокуренные женские голоса с хрипотцой, как бы запанибрата, балдеют вместе со слушателями. За этим стоит, по существу, не только отсутствие уважения к личности, но та поверхностность и та ущербность, которые никогда не были свойственны русскому человеку с глубокой душой и благородным сердцем. Еще раз повторю: в наше время трудность заключена в том, что люди уже отвыкли от нормального разговора, им негде было восчувствовать подлинную глубину общения в духе. А какая интонация более всего соответствует этому непредвзятому, доверительному, благородному, полезному общению? Безусловно, это собеседование, о котором говорят: от уст к устам, от сердца к сердцу. И еще говорят: Сердце сердцу весть подает. В наше время даже мамы и папы предпочитают не рассказывать ничего детям, муж с женой практически не способны делиться друг с другом впечатлениями прожитого дня, а если кто-то попытается, то другой (другая) тотчас отсечет ему крылышки. Собеседника, а тем паче задушевного, у которого за душой что-то есть, днем с огнем не сыскать. Вот почему упомянутые конференции и "столы", симпозиумы часто сохнут на корню именно потому, что при интересной проблематике, а лучше сказать, при богатом содержании сами выступающие не ценят ни на йоту тайны человеческого общения. И самая подкупающая интонация, самая неотразимая – это интонация, свойственная живому и непосредственному рассказу, такому, который мы ведем экспромтом, т.е. без детальной начетнической подготовки. Если у вас есть что сказать, то оно само скажется в соответствии с расположением слушателей и обстоятельствами времени, которым вы располагаете.
Рассказ бабушки, нянюшки, дедушки (сейчас это уже отходит в область преданий и классической литературы, ибо дедушки прокурены, бабушки слушают "Маяк") – вот богатство, которое передалось, очевидно, А. С. Пушкину сполна. "Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя… Выпьем, няня, где же кружка?" У современных студентов только ухмылка на опухших физиономиях возникает: "А чё пил-то?" А когда нянюшка рассказывает что-либо ребеночку, она не относится к нему снисходительно-покровительственно, она не задается целью вложить в его ментальные структуры информацию. Няня не воспитывает специально, как говорят, она чужда дидактичности и морализирования, но няня делится с маленьким человечком, который слушает ее по-взрослому. Она износит от полноты своей любящей души тот свет, ту радость, как говорят: чем богаты, тем и рады. У нее задача простая: чтобы ребенок заснул. А уж что там он усвоит, знает Господь. Няня говорит сама с увлечением, но няня не заходится, ее не заносит. А самое главное, в словах и интонации няни есть та небесная мудрость, та эпичность повествования, которая подразумевает отрешенность от земных, душных и знойных страстей. Это, пожалуй, самое важное. Человек страстный может, конечно, интонировать свою речь, всячески ее разнообразить. Но у няни, в душе которой, может быть, все уж давно отшумело, которая прожила трудовую и жертвенную жизнь, воспитала три поколения детей, никогда не была мучима страстями, была полна послушания, смирения, безграничного терпения и неоскудевающей любви – у нее эти интонации естественные, неповторимые, диктуемые сердцем. (Помните няню Татьяны Лариной? Ее выдали замуж, и она была верна, потому что воля Господа через господскую волюшку себя явила.) Няня, между прочим, не рефлектирует, на себе болезненно не сосредоточена, у нее никогда не бывает плохого настроения, она всегда в духе веры, верности, любви, мира. За эти-то добродетели, за эту тихую и небогатую внешними событиями жизнь Господь награждает няню той премудростью, которая помогает ей являть такое же интонационное богатство, как богат солнечный свет, струящийся сквозь полупрозрачную пелену перистых облаков. Ибо солнечный свет (художники об этом хорошо знают) бесконечно многообразен. Только люди, посещающие вернисажи, галереи ничего не смыслят в свете, а художники знают такое богатство тонов и оттенков, переливов от нежно-розового до темно-синего, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Вот почему рассказ няни в хорошем смысле завораживает, он жизнен. Рассказ няни как бы раздвигает горизонт. Няня, в отличие от Шагала или Малевича, не задается целью создать какой-то антимир, в котором богом будет ее человеческое "я". Нет! Няня с Божьим миром всегда говорит в резонанс. Но через слова няни дитя убеждается в том, что нравственный миропорядок является стержнем земного бытия.
"Запомни, Мишенька, – говорит она, – как аукнется, так и откликнется. Или: Шел Иванушка-дурачок, видит колодец, а в колодце вода не простая, а какая? – Живая! Не плюй, дитятко, в колодец..., и тому подобное. И вот няня-то и сообщает, передает своей речью все богатство жизненных интонаций, отрешенных от смрада страстей. Поэтому ни одного слова из ее рассказа не выкинешь, все в нем проникнуто Божественной правдой и Силой, и любовью, которая и грешного милует, помышляет о том, чтобы не отвергнуть и отверженного. Когда, стало быть, с таким душевным зарядом, с таким устроением сердечным вы придете в аудиторию, кто бы перед вами ни сидел: рэкеры, рокеры в банданах, кто бы вас ни слушал, вы найдете тот золотой ключик, а лучше сказать, подойдете к той заветной двери, на которой веревочка психологического общения болтается. Дерни за веревочку – дверь и откроется. А пирожки у вас в корзиночке испечены давно.
Благо тому, кто самой душой усвоил эти тайны интонационные. Такой будет всегда на волне. Нужно вам сделать замечание? Вовсе не обязательно для этого бить кулаком по магнитофону. Вы только скажите что-нибудь, правильно интонируя ваше слово: "Что-о-о?! (сильное возвышение голоса). А ну-ка посмотри сюда" (с понижением тона). Всё, конец! "Э-этто что такое?!" (опять с повышением). Помню незабвенную учительницу в десятом классе, которая, сама того не подозревая, чудо интонации являла в своих, тоже удивительных, к нам обращениях. Она говорила примерно так: "У вас что? Мозги мохом поросли?!" А когда первое не действовало, то она второе припасала: "Я что, к кубатуре обращаюсь?" И вот, повторяю, педагоги даже советского времени, они кладезь в себе этой премудрости носят. Но, оставив в стороне шутки, снова подытожу: богато интонированная речь – это, в определенном смысле, признак духовной зрелости человека. Богато интонированная речь обладает силой назидания. И напротив, никак не окрашенная речь напоминает собою работу той машины в реанимации, которая подключена к человеку уже скончавшемуся. И педагоги должны обязательно это иметь в виду.
Об интонации сказали.
Теперь скажем о громкости и тихости речи. Какой это параметр? Который в герцах измеряется? Сила? Звучность? Громкость? Опять-таки, если человек не понимает, что он словом служит ближнему, то он часто свою речь произносит будто для самого себя. А здесь особенной громкости и не нужно. Например, бывает, что молодому священнику из монашествующих (а монахи – это черные лебеди Церкви, которые бороздят воды покаяния; для них внимание к себе, исследование собственных страстей – это подлинная жизнь; как, впрочем, и для каждого из нас) довольно долго приходится практиковаться, пока-то он найдет золотую середину между служением ближнему и главным деланием своей жизни – покаянием. Иногда (такое приходилось наблюдать) храм полон народа. Читают братья акафист. Монахи ангелоподобные, такие постные, такие тонкие, обостренные черты лица, светлые очи. Ну, просто страшно смотреть. От них веет святостью. Вот он наклонил голову свою в клобуке и читает акафист: Радуйся, Бога невместимого вместилище, радуйся, – и дальше совсем невнятно. Слушаешь и питаешься только благоговейным образом его. Нет, безусловно, речь наша должна быть достаточно громкой и понятной, чтобы ее слышали без труда на галерке, на "камчатке", на задних рядах.
Между прочим, опытный проповедник, входя в аудиторию, каким-то внутренним чувством оценивает для себя ее кубатуру, вместимость (а человек – существо очень богатое; в нем и акустические тоже чувствилища имеются), взвешивает и находит для себя тот необходимый регистр, уровень, на котором должно ему говорить. Очень неприятно, когда в маленькой аудитории человек говорит неестественно громко, а в большой – слишком тихо. Первое вызывает смех, а второе – раздражение. И здесь, повторяю, очень важно найти некоторый резонанс, потому что каждая аудитория имеет свою емкость. И нужно вам найти такую силу звучания, когда вы попадете в резонанс.
Вот, например, как-то мне пришлось преподавать в православной гимназии в Ясеневе, и был у нас очень интересный урок с десятиклассниками. Назывался он: "Дети и родители". Речь шла о детях и о том, как родители ощущают себя при появлении ребенка, что меняется в их сердцах. Использовал я для этого дневниковые записи царицы Александры Федоровны. Старшеклассники очень прилежно слушали. А комната, в которой мне пришлось говорить, была сдвоенной, смежной с еще одной. В классе находилось по существу, два коллектива: А и Б. И вторая комната, оказавшись пустой, явила некоторое чудо. Когда я, похаживая взад и вперед, вдруг оказался на уровне с дверью в ту аудиторию, я вдруг ощутил, что голос изменился и прямо полетел по полям, по долам. Возникло некое звуковое эхо. Тотчас я смекнул, какое интересное местечко я нашел, вот тот резонанс. А рассказывал я о девятилетнем мальчике, взирая на которого, мама вспоминает, как она носила его под сердцем, который является в подлинном смысле ее кровиночкой и слезиночкой. Она связывает с будущностью этого ребенка столько светлых мыслей и чаяний; поистине живет в своем дитяти. И вот подошел мой рассказ к тому, как мама хочет по обычаю благословить свое дитя, которое уже лежит в своей кроватке, наклоняется, чтобы поцеловать его в лобик, покрытый белобрысенькой челочкой, и вдруг... чувствует, что от отрока пахнет табаком! От этого светлого, чистого мальчика, который таким птенчиком улыбался на фотографиях в пять лет, от этой снежиночки, которой умилялись все родственники, вдруг пахнет табаком... А я всё это рассказываю, чтобы что-то милым деткам запало в душу (десятый класс!). А ребеночек-то, увидев страшное лицо мамы, говорит: "Мама!" И так уж само собой получилось, что когда я дошел до самого значительного места своего повествования, тут-то у меня звук эхом отозвался – "Мама... Мама... Мама". Словом, важно найти некоторый аудио-секрет в аудитории. Во всяком случае, звучность слова как бы покрывает, наполняет собою аудиторию. И в этом, безусловно, тоже искусство заключается.
Очень важно, когда в вашем слове речь дошла до каких-то ключевых моментов, суметь возвысить звучность, громко произносить главные тезисы, отчетливо, чтобы хотя бы они пали на сердце слушателя. Неопытные ораторы говорят на одном уровне звучности, а опытные выделяют и интонацией, и повышением громкости, и ударением, и жестом то, что они хотят запечатлеть в памяти аудитории. Вот урок мерно течет своей чередой, и вдруг педагог говорит: "Что же, дорогие дети, мы сегодня с вами прошли?!" И темп убыстрился, и речь стала звучнее: "Самые главные выводы, какие мы сегодня сделаем? Первый вывод?.. Первый вывод: революционные демократы были с ущербной психологией; они были, безусловно...", – и вот нанизываете дальше выводы. Если вы хотите привлечь внимание аудитории, то можете сделать, напротив, неестественно тихим ваш голос, так, чтобы заинтересованные в вашей речи ловили каждое слово, вслушиваясь в тишину. "Вы помните, друзья, что сказал о Добролюбове наш поэт?" И дальше совсем тихо: "Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало!" И опять громко: "А что это за сердце? Сейчас я вам расскажу". Вот это все тоже не шутка – звучность речи. Повторяю, каких-то схоластических, внешних приемов дать тут невозможно. Просто нужно самому испытывать все и потихонечку набирать опыт. Таким образом, живя по правде Евангельской, медленно, но верно подтачивая и выгоняя вон душные страсти, христианин мало-помалу усваивает своей душе то, что выявляется потом и в православной интонации любви безгрешной и смирения нелицемерного, выявляется и в точно рассчитанной звучности речи, более всего боящейся быть как навязчивой и утомительной, так и слишком тихой и отрешенной. С опытом становится и все более значимым для проповедника мудрое знание, что сердца слушателей принадлежат единому Богу. И мы не поставлены на то, чтобы своими отмычками да гаечными ключами ржавыми эти сердца взламывать, но как Бог даст!
Теперь нам с вами, друзья, осталось побеседовать еще о таких предметах, как темп речи, риторическая пауза и акцентуация, жестикуляция и внешний облик проповедника, а также надо будет поговорить и о самом стиле проповеди. Ведь в идеале у каждого должен быть свой стиль проповеди, Богом данный.
В прошлый раз мы начали речь об интонации естественной и неестественной, ложной; о напускном пафосе, о монотонности. Говорили о том, что правильной, отвечающей требованиям мы назовем интонацию естественную, то есть не грешащую скудостью, но разнообразную, как и сама жизнь.
А сегодня побеседуем о специфических интонационных рисунках, соответствующих и жанру, и стилистическим особенностям того или иного слова.
Беседе, выношенной проповедником или лектором в уме и сердце, текущей свободно, непринужденно, не боящейся так называемых лирических отступлений; беседе, ставящей целью словесное общение живых душ и сердец, – такой беседе присуща задушевная интонация, характерная для сказа, рассказа, повествования. Эта интонация содержит в себе те нотки, те тона и полутона, к которым прибегают умудренные, но не ожесточенные пожилые люди. Их когда-то называли "старинные добрые люди". Няня Арина Родионовна в нашем представлении и является эталоном рассказчика, всецело владеющего вниманием собеседника. Конечно, не произведет большого впечатления деланная, нарочитая задушевность человека, который ничего не имеет за душой, однако хочет казаться таковым.
Безусловно, чем больше выпадает испытаний на долю говорящего, чем более он потрудился, пострадал в своем подвиге очищения сердца и делании добра, тем больше подлинности, умудренности окажется в его сказе, в его беседе. Чем привлекает нас такой сказ? Может быть, тем, что человек, прошедший через горнила испытаний, достигает светлой умудренности или просветленности, в которой уже не слышится страстности, напряженности, тяжести.
Интонация должна быть такова, чтобы слушатель не ощущал давления на сердце. Умудренный жизнью рассказчик ничего не требует от своего слушателя, не влечет его "добровольно-принудительно" к высоким идеалам, но делится накопленным опытом и при этом радостно смотрит на жизнь.
Что значит – смотреть на жизнь радостно? Это значит усматривать в каждом жизненном явлении действие Промысла Божия, то есть попечение, заботу о нас Отца Небесного, Который хочет всем спастись. Такое видение мира и отзыв о нем на поверку оказывается куда нужнее, актуальнее, убедительнее, плодотворнее, эффективнее, успешнее всех казенных и монотонных сообщений, докладов, лекций и всех словесных жанров, какие только ни употребляются людьми на этой грешной земле.
Указанная интонация подразумевает определенную плавность, умеренную тягучесть – то, что соответствует в музыке знаку "легато". Заметим, что еще двадцатый век отличался бешеным темпом информационных сообщений. На телевидении программы "Время" и "Времечко" так быстро выстреливали новости, что никто не успевал почесать за темечком; Татьяна Миткова была пулемет номер один. И современник, несколько оглушенный телевизионными информационными очередями, саму размеренность вашей речи (если только вы не психический больной с вялотекущими процессами, но просто человек, который умеет остановиться, поразмышлять над жизнью, унестись от злобы дня в область непреходящих нравственных понятий, чувствований), саму интонацию вашей речи воспримет как врачующую, успокаивающую, умягчающую сердце.
В то время, когда еще не было программы "Времечко", а шло привычное "Время" по Первому каналу телевидения, ко мне пришли представители этого самого Первого государственного канала и сказали: "Отец Артемий, мы хотим предоставить вам эфир после программы "Время" в двадцать один час тридцать минут. Пятнадцать-семнадцать минут вещания на шестую часть континента. Чего мы от вас хотим? А хотим мы такого эффекта, чтобы вы как бы положили свою священническую ладонь на воспаленные мозги населения Советского Союза и чтобы всем стало просто хорошо. Поэтому мы хотели бы вам предложить выступить с вашим словом о добре и правде, но без идеологической наполненности. Мы хотим, чтобы просто всем стало хорошо. Но только не нужно акцентов расставлять... мировоззренческих". Послушал я их вкрадчиво-льстивые речи и говорю: "Простите, но мыльных проповедей у нас в Красном Селе никогда не произносилось"...
Между тем они, наверное, имели в виду, что сам голос священнослужителя – не встревоженный, не нервный, не дерганый, несет с собою какое-то благое воздействие на слушателя. И этого нельзя недооценивать.
Итак, главное, пользуясь интонацией сказа, достигать подлинности, то есть избегать всякой деланности, жеманства, актерства. Приметим: когда приглашают актера читать сакральный, священный текст (библейский или иной), то они, владея всем богатством и всеми тайнами интонации, выполняют свое дело сверхстарательно, но при этом едва-едва достигают, а чаще и вовсе не достигают успеха. Почему? Потому что техничность и профессионализм в деле интонации еще не все. Главное – это сердечность слова, прочувствованность его, не в смысле эмоциональной насыщенности – у актеров с этим все в порядке, они могут смеяться и плакать по заказу. Главное – это умение воздействовать на дух слушателя, на его совесть. Это требует определенной духовной глубины, а, следовательно, жизненного опыта, внутреннего трудничества, плод которого – наше слово.
Наш теоретический материал должен подкрепляться конкретными примерами. Давайте обратимся к таким примерам именно с точки зрения интонации, а не только смыслового содержания.
Скажем, вы прибегаете к русской сказке. "Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок". Ведь многие дети еще в наше время просили бабушку рассказать сказочку, без сказки с трудом засыпали. Сейчас, конечно, все изменилось, однако мы не будем отрекаться от этого жанра, одного из самых интересных, увлекательных, глубоких и близких по духу к русской церковности.
Попробуем проследить за интонацией в рассказывании сказки, за ее движением.
"Ну что ж, дорогие друзья, сегодня вместо лекции я расскажу вам сказку. Хотите? – Да-а-а!"
Одна из сказок, которая прошла по первой программе телевидения (вы были маленькими и, наверное, ее не видели), триумфальным шествием прокатилась по нашей стране – это "Сказка о рыбаке и рыбке". Я рассказывал ее, будучи еще не пожилым священником, но немножко озорным и уже немножко освоившимся в общении с детской аудиторией учителем. Когда на меня устремились "юпитеры", то я сам себе сделал наказ не волноваться, думая, что со мной действительно общаются дети, а это не так уж трудно себе представить: при свете телевизионных прожекторов вы чувствуете миллионы глаз, устремленных на вас. Так вот, перекрестившись и благословясь, я начал свою сказочку: "Жили-были..."
"Жили-были" – этого оказывается уже достаточно, чтобы полностью вывести слушателей из атмосферы нашего сумасшедшего века.
"Жили-были дед и бабка...". Интонация уходит вниз, вы понижаете голос, все настроились слушать что-то спокойное, задушевное и небезынтересное.
"По большей части... – Вы несколько замедляете темп речи, как это бывает в сказках, говорите протяжно – это интонационное легато, – ...бабка сидела до-о-ма...". – Мы так не говорим, общаясь друг с другом, и так не читаем лекций, однако для детей нет ничего более заманчивого, интересного, чем погрузиться в подобную патриархальную атмосферу.
"...Бабка сидела до-о-ма...". – Может быть, у англичан, у французов дело обстоит по-другому, а у нас вот такой рисунок.
"А утром, до того, как вставало солнце, старик отправлялся к синему морю. Шел он к синему морю, влача за спиною невод. И там, свершив утреннюю молитву, благословясь у Бога, начинал нелегкий свой труд. Волновалось море, шла волна за волною, а старик, засучив рукава, тянул на себя не-е-вод, говоря: "Ловись рыбка, малая и большая...".
Сколько потом вышло возмущенных статей! В "Комсомольской правде", в "Аргументах и фактах", в "Независимой газете"... Даже по радио "Свобода" знаменитая дама-поэт и публицист Юнна Мориц выступила в защиту русской сказки, чтобы оградить ее от "растлевающего влияния поповства". Средства массовой информации дружно накинулись на бедного батюшку, который решил детям рассказать сказку, как всякая няня или бабушка ее рассказывает, не слишком заботясь о буквальной верности подлиннику.
"Выплывала золотая рыбка, хвостиком в волнах прозрачных виляя. – Что тебе надобно, старче?"
Я и сейчас размышляю, что бы это была за рыбка? И, кажется, понимаю: то был ангел Божий...
Мы говорили в прошлый раз, что оснащенная правильной интонацией речь – это такая, в которой правильно расставлены акценты, выделена смысловая часть. В речи, к которой вы хотите привлечь внимание, можно использовать, конечно, и жест ("перст указующий"), и мимику (хотя батюшка – это не мим). И, конечно же, интонация сочетается с темпом речи. В этом как раз весь секрет риторической, т.е. украшенной устной речи, которая подчинена ясному доброму замыслу – запечатлеть в умах и сердцах слушателей значимые истины, но, по возможности, незаметно и ненавязчиво.
"Что же это была за рыбка, которая слышала и говорила? Теперь-то я понимаю, милые дети, это был ангел Божий...". Какой здесь рисунок?
"Ангел" – интонация идет сначала вверх, потом вниз: "Божий". А затем – риторическая пауза – значимая смысловая пауза, которая для того и употребляется, чтобы слушатель вобрал в себя ваше слово, запомнил его, запечатлел в своей памяти и напитался всеми образами, ассоциациями, которые рождают это слово, вобрал в себя глубину смысла, стоящего за этими понятиями.
"Смилуйся, государыня рыбка! Совсем мы со старухой обнищали. Давно уж Россия... – это еще, помню, был Советский Союз, – отступила от заветов и преданий старины глубокой. Не видно в народе ни искры, ни вдохновения, а трудятся у нас лишь по привычке... ".
Потом уже, лет пять спустя, приезжаешь куда-нибудь в Астрахань и слышишь:
"– Батюшка, вы – наш батюшка!
– Почему я – ваш батюшка?
– Ну, как же?! Это вы тогда нам про рыбку рассказали. Мой дедушка, дважды Герой Советского Союза, он ведь и в церковь никогда не ходил, а когда услышал про долю трудового народа, сказал: "Теперь, кажется, я готов, созрел. Пойду в храм!"
Даже удивляться приходилось, как маленький рассказ про золотую рыбку могущественно воздействовал на население Советского Союза, которое уже к тому времени питалось невесть чем, благодаря телевидению, и вместе с тем, как чутко многие восприняли слово священника, завуалированное пушкинскими образами!
"Вот и моя старуха ничем не довольна, все ропщет и злится, плешь мне проела, не вижу я, чтобы сердце ее было спокойно. Не радует ее ни природа, ни лучи солнца, восходящего над землей, ни лунный свет серебристый, ни шум прибоя. Не хватает ей мыла и сала". – "Что ж, милый старче... "
Меняется интонация, чтобы она не вконец убаюкала. В этой диалогической форме, конечно же, нужно прибегать к каким-то иным обертонам. Иногда трудно бывает объяснить, что это значит. Иная резкость, иной тембр голоса...
"...Что ж, милый старче...". Когда вы за старика говорите, у вас больше шумов в речи, какая-то дремучесть-скрипучесть, а вместе и умудренность жизнью, а рыбка – ангельское начало, больше должно быть звучности в голосе. Это не совсем напрямую имеет отношение к интонации, но вместе с ней изменение тембра в устной речи значит очень и очень много.
"...Возвращайся, ступай поскорее. Пусть будет по твоему желанию. Обретет старуха и мыло, и шампунь, и все, что нужно ей для гигиены женской". Поклонился старик, свернул свой невод тяжелый и отправился поскорей домой. Как-то встретит его злая бабка? А она уж стоит в дверном проеме, уперев руки костлявые в боки: "Ладно, видно, не зря ходил ты к синему морю. Наконец, я хоть голову свою шампунем яичным помыла. Но знай, всего этого мне мало. Мне бы хотелось еще обрести машинку стиральную".
Итак, не отступая слишком далеко от сюжета, вместе наполняя его иными реалиями, мы можем вполне осовременить эту сказочку. А можем и идти непосредственно по проложенному Александром Сергеевичем пути, лишь только оттеняя то, что относится к нравственности, говоря о том, как неполезно ходить вслед за своими желаниями, как важно уметь благодарить Бога за то, что есть. Вложим в уста старика молитву русского народа: "Господи, благодарю Тебя за то, что есть у меня, и трижды благодарю за то, чего у меня нет". Давайте сделаем эту молитву смысловой кульминацией подобного рассказа. Врачуя болезнь старухи, укажем на пользу благодарения, благодарности, на умение довольствоваться малым. Одним словом: не ищи того, чего у тебя нет, но благодари за то, что у тебя есть!
Такое душевное лекарство покажется весьма и весьма ценным для многих людей, источенных заботой о завтрашнем дне, истомленных погонею за земными благами, которых почему-то всегда не хватает.
Думаю, что всякий, размышляя самостоятельно и пробуя сам себя в пересказе замечательных русских народных или тех же пушкинских сказок, вскоре обнаружит, какое богатство лежит у нас под руками. Так как все мы рождены этой землей, воспитаны на русской культуре, и в нас это сокровище, в отличие от иностранных граждан, вложено с детства и даровано с молоком матери, за нами остается лишь востребовать его.
Всякий русский человек, особенно православный, тонко чувствующий культуру и слово, без труда сможет взойти на высоты сказа, рассказа, собеседования. И совершается это по преемству, по таинственной связи с ушедшими поколениями, много нас превосходившими по щедрости, мягкости сердечной, умудренной просветленности, по знакомству со сказаниями, преданиями старины глубокой.
А вот другая интонация. Предположим, вы хотите детям, не слишком внимательным и не слишком послушным, предложить нечто из современности, притом, что цель всегда благая – нравственное воспитание. Главное, чтобы эта цель содержалась в вашем рассказе имплицитно, то есть скрыто, не декларировалась и не постулировалась: "Сегодня, дети, мы побеседуем с вами о пользе воздержания...". И таким образом мы можем использовать какой-нибудь остросюжетный детектив и сыграть именно на этом. У нынешних детей чуткая реакция на всякие триллеры, страшилки, и надо уметь пользоваться особенностями психологии современного ребенка, дабы достигать нужного вам и нужного им результата.
"Друзья, хотите, я сегодня расскажу вам страшную историю? – Да. – А вы не боитесь? – Нет. – А спать будете спокойно? – Конечно".
Вам предстоит теперь не изобрести, но преподнести слушателям некую домашнюю заготовку. Здесь речь пойдет не столько о содержании, сколько об интонации.
"Черный-черный город. В этом черном-черном городе... (всякий владеет этой интригующей интонацией; в чем ее особенность – можно поразмышлять уже после) была одна большая черная улица... По этой улице шел черный-черный человек. Он остановился у черного подъезда и стал взбираться по черным ступенькам...". Действительно, какой-то совершенно иной мир предстает пред слушателем. Ваша задача, безусловно, не напугать. Вы и не должны пересказывать никаких ужастиков, но должны заранее обдумать, каким ходом, каким приемом выведете детей к нравственному миропорядку. При этом вы, повторяю, можете пользоваться всеми интонационными "заначками", приемами, действующими весьма сильно, а иногда просто убийственно, если речь идет о вредном воздействии на умы и сердца детей.
Коль скоро мы завели речь о детях, продолжим примеры, касающиеся этой аудитории. Здесь рассказчику большой плод приносит, как и на примере с золотой рыбкой, интонация сказа, переосмысление тех или иных устойчивых сюжетов. Есть, например, советские сказы. Они эксплуатировали в свое время наследие древнерусского сказа, наполняя его новыми реалиями. Вспомните, откуда это: "Пролетели над могилой Кибальчиша самолеты и покачали крылами с красными звездами, взвились и скрылись в небесной дали. Показались танки Т-34, у могилы дула опустили, отсалютовали и дальше поползли, оставив в земле гусеничные следы. А вот проходили пионеры, салют Кибальчишу отдавали: "Всегда готовы твоими стопами, Мальчиш-Кибальчиш, в бой идти за правое дело! Левой! Левой! Левой!" 47
И советские идеологи, конечно, очень мудро и расчетливо пускали в ход лиризм такого духовного стиха. Еще с Некрасова пошло это обольщение – использовать религиозные термины в деле просвещения народа чуждой идеологией. Всякие Гриши Добросклоновы 48 ввели Некрасова в грех перед русским мужиком, если тот, конечно, читал Некрасова. Тем не менее, сам поэт в его творческом замысле всего более уподобляется здесь волку в овечьей шкуре.
Применяясь к психологии восприятия нашего слушателя, мы можем весьма свободно кочевать из одного жанрового пространства в другое. Если перед нами разновозрастная аудитория, не будем бояться находить такие жанры и так одушевлять их интонационно, чтобы плод слышания говорил сам за себя.
Предположим, перед вами молодежь, которую сказочками не накормишь. Известно, что уже в подростковом возрасте – пятый, шестой, седьмой класс – дети жаждут коллизий, столкновения. Их интересует драма, борьба, противостояние, поэтому особым успехом пользуются такие сюжеты, в которых сталкиваются добро и зло, положительный и отрицательный герои. Добавим, что мальчишки и девчонки пятого-шестого класса еще сочувствуют добру, еще не заражены, не расслаблены злом в такой мере, чтобы петь ему дифирамбы. Это старшеклассники находятся в сложном состоянии героев Федора Михайловича Достоевского, они уже способны писать "Записки из подполья", они уже поклоняются незнамо чему, потеряв чистоту сердечную. Поэтому, оказавшись в аудитории пятого-шестого-седьмого класса, лучше всего выбирать героическую тематику, например, времен Великой Отечественной войны. Сейчас это действует очень сильно, потому что военной эпохе соответствует определенный аромат здорового патриотизма, сердечного воодушевления. И если современный учитель этим владеет и сам в состоянии проникаться духом стихотворения Симонова "Жди меня" или рассказов наших военных писателей, это просто приобретение для современной молодежи.
Там своя интонация, свои творческие секреты, которыми можно и должно овладеть миссионеру, "своему среди чужих, чужому среди своих".
"Светало, над болотом поднимался туман. Лишь опытный взгляд мог распознать среди сугробов замаскировавшихся в особых защитных халатах разведчиков-снайперов. К шести часам утра послышался лязг гусениц, медленно подползали "пантеры". Ребята все замерли в окопах. "Внимание, немец идет! Саша, потуши сигарету. Все как один умрем в борьбе за это!" Первые залпы..." – и повествование потекло рекой.
В нашем примере необходимо определенное знакомство с подобной литературой, но на деле все решается за счет интонации, за счет сопереживания, и это не игра. На самом деле у всякого русского человека, даже современного юноши, произведения военной тематики, особенно если в них рассказывается о реальном подвиге, в состоянии вызвать и слезы, и умягчение сердца. Сегодня такая героика более всего нужна нашим детям, образно говоря, лишенным боевого знамени, лишенным счастья ощущать себя единым, целым народом. Сегодня век уже не "буржуазного индивидуализма", а холодящей душу демонической обособленности друг от друга.
Громко сказать нашим слушателям: "Вставай, страна огромная..." – значит взрезать плугом слова некие пласты сознания, которые для нас еще были жизненны. Обращение к ним было весьма существенно в деле нашего нравственного становления. А вот бедные нынешние детки находятся в этом отношении в вакууме.
И повторяю, что нас во всех приводимых мною примерах интересует самая атмосфера рассказа, достигаемая и за счет сюжетики, описываемых словом реалий, и за счет интонации, которая запечатлевает в себе дух эпохи. Всего труднее прикосновение к библейским сюжетам, ибо велика опасность погрешить в слове и интонации. Эти сюжеты вневременные, назидающие все поколения всех исторических эпох. В обращении с Библией нужна особенная чистота языка, особенная возвышенность духа. Но ни в коем случае не патетика, не слезливость, не сентиментализм, о чем мы беседовали на прошлом занятии. Нам нельзя идти путем протестантов, которые подменяют благоговение пред святыней закатыванием глаз и уменьшительными суффиксами.
Назидательные повествования Ветхого Завета об Иосифе и его братьях, жизни пророков Моисея и Даниила, скитаниях Давида-царя, его возвышениях, ошибках и победах – это кладезь неисчерпаемый, но, к сожалению, мало востребованный современными законоучителями по понятной причине: дети не вполне готовы слушать Священное Писание, если мы не умеем его хорошо преподнести.
Попробуем прикоснуться к старой как мир повести об Иосифе Прекрасном. Не надо забывать, что во все века христианской письменности учителя Церкви эту историю перелагали в соответствии с особенностями художественного слова своего времени. Так, например, хорошо известна повесть об Иосифе Прекрасном преподобного Ефрема Сириянина, обращенная именно к юношеству. В русской духовной литературе есть знаменитая по красоте, идеальная по стилистической выдержанности повесть об Иосифе Прекрасном святителя Игнатия Брянчанинова во втором томе его "Аскетических опытов". Можно было бы дать вам такое ненавязчивое домашнее задание: кто не читал библейской истории об Иосифе в переложении святителя Игнатия, прочитать ее. И поскольку пересказать ее слогом отечественного витии мы не можем, то, по крайней мере, составим малое размышление – в чем, по нашему суждению, состоит ее стилистическое своеобразие. Интонацию святителя мы, безусловно, воспроизвести не можем, но зато можем поразмыслить, чем дышит эта повесть, что она запечатлевает в сердце внимательного читателя.
В указанном произведении святитель Игнатий заявил о себе как великий писатель Русской земли, хотя он, конечно, меньше всего об этом думал. Мир не знает его и до сих пор. Студенты филологического факультета готовы изучать какой-нибудь трудночитаемый гроссбух Томаса Манна "Иосиф и его братья", но не эту жемчужину нашей духовной литературы.
Не претендуя на высоту, чистоту и возвышенность речи святителя Игнатия, попробуем начать пересказ библейского текста для современных детей, учитывая особенности их восприятия.
Вы знаете, дорогие друзья, что Авраам родил Исаака, а Исаак родил Иакова, от Иакова же родилось двенадцать сыновей, среди которых особенно выделялся младший, прекрасный собою... Ваша задача не умалить ничего от библейского текста, не внести в него никаких искажений, но переложить его в вашем слове для восприятия юного русского слушателя.
...Иосиф именуется в Священном Писании Прекрасным... У вас уже нет никакой своеобразной интонации (свойственной военным рассказам или сказкам), здесь нужна особая чистота, прозрачность, простота; вы не имеете права ни на какой индивидуализм, психологизм, ни на какие, лично вам присущие модуляции голоса. Ваша задача ввести слушателя в удивительный, прекрасный мир Библии и раскрыть его духовный смысл.
...Внешняя красота Иосифа соответствовала чистоте его души. Очень часто юноша уединялся на лоне природы, созерцая красоту небес, раскинувшихся над головой. От сердца он воссылал свои теплые молитвы Богу. Молился о престарелом родителе, молился о братьях, которые, к несчастью, недолюбливали Божьего избранника, тайно завидовали ему, видя, что отец с особенной нежностью относится к ласковому и послушному сыну. При первых минутах общения с аудиторией вы ощущаете на своих плечах как бы неподъемный груз. И немудрено, потому что задача явно превышает ваши силы. Что мы можем? Ни-че-го. Но отступать нельзя – "позади Москва". "Назвавшись груздем – полезай в кузов". "Только смелым покоряются моря". "Приблизьтесь ко Мне, и Я приближусь к вам", – говорит Господь.
Некоторые люди в течение своей творческой жизни так и не преодолевают этого ступора, но, покрываясь бисеринками холодного пота, начинают умалять себя перед слушателями, да еще в такой мере, что вовсе отбивают у них охоту слушать.
"Вы меня простите, я вообще-то здесь по недоразумению оказался, задача много превышает мои силы, вероятно, и слушать меня будет вам противно. Но все-таки я должен рассказать то, что должен, заранее меня извините за слова-паразиты. Я вам сам сочувствую, потому что есть много людей меня талантливей, сообразительней, я здесь только по долгу, хотя и бесплатно".
Надеюсь, вы поняли, друзья, что весьма тонкое дело – смирять себя перед слушателем. И гораздо ценнее, набрав воздуха, благословясь, решительно отправиться в плавание, то есть, начать говорить, поначалу мучительно связывая между собою слова, но незаметно обретая второе дыхание. И вот трудности уже позади. Без опыта, может быть, многолетнего, невозможно рассчитывать на быстрый успех, но словесное служение – дело наживное. Бог даст, в свое время придет и ощущение полетности, то есть творческой свободы в общении с аудиторией, когда вас отпустят всевозможные страхи и останется лишь единение со слушателями. Вот та высота, к которой мы должны стремиться путем неудач, поражений и побед: пал – и снова встань.
И напоследок еще несколько замечаний. Всякий раз убеждаешься, что слово есть некая могущественная сила, посредством которой душа слушателя выходит за узкие грани времени и пространства. Слово действительно вводит душу в тот духовный мир, о котором оно свидетельствует. Слово Священного Писания, передаваемое нашими устами, помогает слушателям подняться на высоту птичьего полета, чтобы уже из вечности осмыслить собственную земную жизнь в свете Божьего Откровения. Таковы значение и сила библейского рассказа, с помощью которого мы прикасаемся к священной истории и одновременно выходим за грань времени.
Иосиф, будучи простым и незлобивым, чуждым мнительности человеком, рассказывает братьям о сне, который нельзя отнести к простым сновидениям и который лучше назвать видением, откровением. И видел я, братие, – говорит он своим слушателям, которые смотрят на него исподлобья, настороженно, время от времени шепча что-то друг другу (а он того и не замечает), – видел я большой сноп пшеницы, а вокруг одиннадцать малых снопов. И увидел, как перед снопом, состоящим из тяжелых полнозерных колосьев, пали ниц те малые снопы, словно поклонившись ему. Братья, выслушав об этом прозрачном сновидении, отойдя от Иосифа, совещались между собою: Что нам сделать этому сновидцу? Вот он уже и превознесся пред нами. Мечтает о том, чтобы мы ему служили. Гордец, не знающий, не помнящий родства.
"Да, – замечаете вы, – людям свойственно судить о ближних по испорченности своего сердца, приписывая другим то, что они сами усматривают в глубине собственной грешной души".
Вот это идеальный образ назидания, когда, не тыкая никого носом в лужу, вы вскрываете сокровенные пласты падшего человеческого "я", и каждый из ваших слушателей в меру своего нравственного развития открывает для себя нечто весьма важное, слушая ваше повествование.
Настолько пространна эта повесть, что, начав ее пересказывать, вы увидите: она может быть умещена по вашему желанию в три, четыре, пять, шесть собеседований. Потому что каждый ее эпизод – это особая тема. Скажем, столкновение Иосифа и жены Потифара – тема для собеседования о целомудрии, о чистоте душевной, о любви подлинной и вымышленной, о добродетели и пороке. И сила этих собеседований в том, что они не выдуманы и не пересказаны с натугой, но плавно, то есть сами собой истекают из библейского устья, до краев наполняя церковное русло. Нам лишь остается прикоснуться к этой реке самим и подвести к ней нашу аудиторию, жаждущую живой воды Слова Божия.
Итак, несомненно, творческое овладение интонационным богатством русской речи – одно из обязательных слагаемых успеха проповеднической деятельности.
Продолжаем говорить о вспомогательных по отношению к слову технических средствах. Уже сказано об артикуляции, интонации и силе звучания. Следующая тема нашего риторического размышления – темп или скорость речи.
Когда-то была произнесена фраза: Этот безумный, безумный, безумный мир 49. А окончание этой фразы знаете какое? – Ах, как кружится голова, как голова кружится 50. Когда впервые эти и подобные фразы были произнесены с большой сцены, то, очевидно, произносившие имели в виду, миленькие, ту скорость, с какой мир приближается к своему концу.
Недавно я прочитал краткую, но глубокомысленную проповедь "О семи горячностях духа" Сан-Францисского епископа Иоанна (Шаховского), уже, к сожалению, покойного. Вот это проповедник нашего времени! Посмотрите, как он пишет: Горе человека в том, что он постоянно торопится, но торопится бесплодно, суетно. Человек переворачивает горы своей энергией, воздвигает и разрушает целые города в очень короткие сроки. Но если мы вглядимся в его энергию и посмотрим на ее последствия, то увидим, что она не увеличивает добра в мире. А что не увеличивает добра, то бесплодно. Даже уничтожение зла бесплодно, если это уничтожение не есть проявление добра и не несет плодов добра.
Жизнь людей стала в мире очень торопливой и становится всё более торопливой; все бегут, все боятся куда-то опоздать, кого-то не застать, что-то пропустить, чего-то не сделать. Несутся машины по воздуху, воде и земле, но не несут счастья человечеству; наоборот, разрушают еще оставшееся на земле благополучие. Вошла в мир диавольская торопливость (это словосочетание нужно запомнить), поспешность. Тайну этой поспешности и торопливости (глубокомысленно замечает владыка Иоанн) открывает нам слово Божие в двенадцатой главе Апокалипсиса (вот это, наверное, самое глубокое, что можно узнать об ускорении прогресса XX века): И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его Кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. И так веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени (Откр. 12, 10-12).
Владыка Иоанн подмечает: Вы слышите: на землю и на море диавол сошел в великой ярости, зная, что не много ему остается времени. – Вот откуда это неудержимое, всё ускоряющееся круговращение вещей и даже понятий в мире, вот откуда всеобщая торопливость, и в технике, и в жизни – все более безудержный бег людей и народов.
Царству сатаны скоро наступит конец. Вот причина веселия неба и тех людей на земле, которые живут небесным. Обреченное, предчувствующее свою гибель зло мечется в мире, будоражит человечество, раздувает себя до последних пределов и заставляет людей, не положивших на свое чело и сердце крестной печати Агнца Божия, безудержно все стремиться вперед и ускорять свой бег жизни. Зло знает, что лишь в таком бессмысленном коловращении людей и народов оно может рассчитывать присоединить к своей гибели еще часть человечества. Затормошенные, куда-то несущиеся люди мало способны и рассуждать (это для нас важно!) об истинах великих и вечных, для постижения которых нужна хотя бы минута божественного молчания в сердце, хотя бы мгновение святой тишины.
Эти слова прямо относятся к искусству публичной речи. Затормошенные люди мало способны думать и рассуждать. О чем? – Об истинах вечных, для постижения которых требуется хотя бы мгновение святой тишины. И вот, друзья мои, если мы с вами нечто великое, святое, возвышенное (как в школе говорили, разумное, доброе, вечное) начинаем излагать в обычном мирском темпе – горе нам, ибо мы духовное соделываем душевным, небесное – земным, сакральное, священное – мирским. И наши слова, хотя бы и были действительно посвящены Богу, будут отмечены диавольским поспешением. Именно это диавольское поспешение и воздействует более всего через око диавола – телевидение, где главный технический прием – смена кадров, хаотическая да еще со вспышками: нога модницы, какая-то табачная пачка, осклабленное лицо дяди Сэма, медленно несущийся жираф, поединок боксеров, лицо о. Артемия с бородой. Такой вот коллаж. И ведущие, такие же любимые народом, как некогда Татьяна Миткова или Марианна Максимовская, под это мелькание комментируют: "В Италии министры сложили все портфели, кардинал Ришелье выразил ноту недоверия Ватикану, Пизанская башня наклоняется все ниже и ниже, на место происшествия прибыли специалисты…" – и пошло и поехало.
И вот, когда мы выступаем с духовным словом – горе вам, если вы задаетесь целью во что бы то ни стало, всеми правдами и неправдами, всем смертям назло выполнить учебный план: заключить души ваших слушателей в сетку, в решетку занятий, чтобы небо было расчерчено на эти клетки семинаров, лекций. Да... Ваша задача совершенно иная. Ваше-то дело какое? – Поставить слушателя перед лицом вечности, чтобы душа ощутила себя первоклассницей в белом фартучке, с гладиолусами в руках нежно-розовыми, переходящими в молочный цвет там, откуда тычинки исходят; и чтобы такой ребеночек с широко раскрытыми глазами, с косичками, увенчивающимися тоже бледно-розовыми бантами, сделал бы шаг первый раз в первый класс. А там бы, сложив ручки, сел не как студенты: в позе старухи из последнего действия "Сказки о рыбаке и рыбке", а вот так: ручки сложив и глазенки вперив в лицо учительницы. Но не той, которая, не дай Бог, скажет: "Дети! Сегодня на вашем первом уроке, уроке знания, мы пройдем всего лишь три главных слова, которые вы заучите наизусть: Родина, мама, Ленин". Это ужасно. Здесь будет действовать сам Мефистофель. Ваша задача не выполнить учебный план, не пройти программу и не протопать по галерее русских писателей ногами в кирзовых сапогах, а ваше дело – ввести слушателя в царство Божественной правды и любви. Ваша задача в том, чтобы внимающий вам человек, как говорит Ф.М. Достоевский, возблагоговел пред святынею, чтобы он ощутил себя немощнейшим созданием, на которого устремлен взор вселюбящего Небесного Отца.А это-то совершается под знаком вечности, а не в учебном процессе дурной бесконечности.
Стало быть, вам потребен совершенно особенный темп речи. Какой? Который выведет слушателя из утомительного исторического, эмпирического контекста жизни. И у кого учиться? Конечно, у Матери-Церкви. Когда вы входите в храм, то вас обымает царство Божественной тишины, священного безмолвия, мерного пения, на волнах которого ладья души человеческой несется к пристани покаяния и бесстрастия. И поневоле заглянувший в храм человек остановит свой стремительный бег; взор его, дотоле блуждающий, сосредоточится. (Замечу при этом, что никогда не нужно ругать тех, кто вошел в храм, не зная как стоять: боком, задом, передом.) То же самое, вероятно, призван свершать со слушателями проповедник, настоящий учитель, педагог. Взяв доверившуюся вам душу за руку, вы ведете ее неспешно, но и уверенно в то царство, где ничего не будет проклято, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но, по выражению Владимира Соловьева, сияет неподвижное солнце любви. Ваш слушатель забудет, что есть время, пространство, забудет свои земные дела и даже мирские потребности. И после того, как вы его все-таки отпустите, сказав: "А об этом мы с вами поговорим в следующий раз, если Бог даст нам дожить до следующего занятия", – он, выйдя вновь в душный шумный коридор, унесет в душе своей нечто святое, подлинное, возвышенное, как будто бы крылья у него за спиною появятся, а вместе с тем и чувство живейшей благодарности к вам как Божьему посланнику. И еще при этом про себя отметит: "Никогда ничего подобного я не слышал". В таком случае ваша задача будет выполненной.
Отчего люди торопятся, когда они слово произносят? Разные есть причины. Первая причина естественная – недостаток времени. Человек боится, что он не успеет весь объем затверженного, заученного, продуманного излить на умы и сердца слушателей. Как уже сказано, это большая ошибка, потому что истина не в количестве, а в качестве.
Вторая причина – это предательское равнодушие к предмету вашего преподавания. Это называют научным, объективным изложением материала, хотя настоящие ученые на самом деле не торопятся. Третьей причиной может оказаться невнимание к слушателям. Бывает, что молодому лектору, юноше, закончившему с красным дипломом философский факультет Московского Университета, самому всё понятно, очевидно в излагаемом материале. И он, бедненький, даже и предположить не может, что девушке с первого курса Богословского института, вчерашней школьнице, совсем не так просто сходу уложить в чердачок ее памяти всякие там феномены, ноумены, эйдосы. А он заливается соловьем, блещет эрудицией... и остается непонятным.
Бывает и наоборот. Четвертая причина – это когда человек торопится от робости и смущения: "Моя задача сейчас потихонечку так разогнаться и так быстро начать говорить, чтобы половина слушателей меня и не поняла, потому что я сам не слишком уверен в том, что говорю" (с ускорением к концу фразы). Излишний темп речи вызван здесь смущением и неуверенностью говорящего, не отдающего себе в полной мере отчета, зачем, для чего, с какой целью он говорит. В этом также сказывается неграмотность, непросвещенность. Не понимает человек, что душа наша все хочет слушать под знаком вечности, т.е. с чувством, с толком, с расстановкой.
И напротив, излишняя затянутость, расслабление, длинноты выдают либо незнание предмета (человек тянет время, не знает, о чем ему говорить через две минуты), либо каким-то образом самоутверждается. В любом случае это сущая издевка над слушателем, особенно, когда слова перемежаются речевыми паузами и междометиями: "Э-э-э... о-о-о.. м-м-м". Поначалу смешно, но очень быстро утомляет. И, безусловно, нужно найти здесь золотую середину, царский путь.
Вообще, должно знать, что темп нашей речи имеет силу формировать духовную атмосферу в аудитории. Слово обладает необыкновенной силой. И опытный проповедник, где нужно, ускорит свою речь, а где нужно, даст разреженный темп, и вообще будет всегда стараться менять темп речи, потому что однообразие всегда утомительно. За этим рекомендую вам также последить не только у самих себя, но и у тех, кого вам приходится слушать.
Хорошо бы дать здесь некоторые примеры. Скажем, вводные предложения, которые несут побочную информацию, обычно произносятся убыстренным темпом и тоном более низким: Я увидел перед собой священника, на груди которого сиял серебряный крест. Такие кресты впервые появились в царствование императора Павла I (произнесено с замедлением пониженным тоном). Батюшка посмотрел на меня и сказал: "Ужо тебе". И вот речь, правильно организованная в отношении темпа, бывает очень динамичной и нимало не утомляет слушателя.
Между прочим, люди, ищущие любви, восторгов, поклонения аудитории, обычно очень даже хорошо умеют соразмерить темп своей речи. Например, ускоренным темпом с быстрой сменой фактов, музыки, шуток можно пользоваться лукаво и сознательно с тем, чтобы душа, завороженная (уже в плохом смысле) этим "галопом по европам", этим калейдоскопом информации и впечатлений, расслабилась и, бедненькая, была уязвлена стрелою лжи, которою весьма метко оный купидон выстрелит. Как говорится: "Летит стрела – и падает казак". Именно на этом способе ускоренного темпа основана дьявольская хитрость СМИ (средств массовой информации). Так называемый двадцать пятый кадр. Когда в поток важной и не важной информации всего-то на полсекундочки включается что-нибудь заведомо нечистое или кощунственное. И потом попробуй упрекнуть такого лектора или диктора, или артиста, который с "восхитительной" легкостью отмахнется: "Ах, не берите это в голову. Кто на это обратил внимание? Все уже улетучилось, прошло, растаяло, как сон, как утренний туман".
Вчера в ракетной академии о. Дмитрий (Смирнов) сказал военным нечто, заслуживающее внимания. Современные люди никакого мировоззрения и никаких мыслей не имеют. Но гордынька-то остается, она побуждает человека высказываться. Но что он берет за высказывание? Как раз общие места, те ядовитые стрелы, которые напитаны ядом с дерева анчар – Останкинской телебашни. Какие это места? Мы вчера их даже перечислили за чашкой чая в недрах ракетной академии. Приведу эти фразы-клише:
– "все нужно испытать" – это относится к области этики взаимоотношений, да и вообще, опыта жизни;
– "что-то есть" – в отношении области догматически-религиозной;
– "самое главное – здоровье" – в отношении антропологии;
– "зачем плодить нищету?" – в отношении семейного устроения;
– "у меня Бог в душе" – в отношении собственного духовного опыта.
И все равно это бесконечно богаче, чем клише западного мироощущения. Там остался в Америке только "фо-фан":
– "зачем ты это сделал? – for fun";
– "ты что там будешь делать? – for fun";
– "как тебе фильм? – fun".
В советское время тоже было что-то подобное: "Знание – сила", "Бытие определяет сознание", "Мы впереди планеты всей", а если кратко: "Мы первые, поэтому нам так тяжело". Можно еще набрать с десяточек таких заголовков, и получится то, о чем сказал поэт советской поры: "Все его несчастье состояло в том, что он не успел произойти от обезьяны".
О клишированных фразах сказали. И о темпе речи мы с вами побеседовали. Далее уместно будет поговорить о паузе, особенно паузе риторической. Но вернемся сначала к владыке Иоанну Сан-Францисскому. Давайте еще немного его послушаем: Техника уже давно увеличивает передвижение людей и их добывания земных ценностей. Казалось бы, больше времени должно остаться у людей на жизнь духа. Однако нет. Душе труднее и тяжелее стало жить. Материальность мира, быстро крутясь, втягивает в себя и душу человека. И душа гибнет, ей нет времени уже ни для чего возвышенного в мире – все вертится, все кружится и ускоряет свой бег. Какая ужасная призрачность дел. И, однако, она крепко держит человека и народы в своей власти. Вместо духовного устремления миром уже владеет психоз плотской быстроты и плотских успехов. Вместо усиления святой горячности духа происходит все большее горячение плоти мира. Создается мираж дел, ибо к делам призван человек и не может быть спокоен без дела. Но дела плоти не успокаивают человека, т. к. не человек ими владеет, а они им. Человек – раб дел плотских, строит на песке, а построенное на песке разрушается. От земного дома человеческого остается куча пыли, вместо многих гордых строений осталось куча песка. Из этого песка человек опять строит себе мир. Песок осыпается, и человек трудится, подбирая его... Бедный человек! Все закованы в цепи малых, ничего душе не дающих дел, которые надо выполнить возможно скорее, для того, чтобы можно было, как можно скорее, начать ряд других, столь же ничтожных дел.
Где же взять время на добро? Даже подумать о нем нет времени. Все заполнено в жизни. Добро стоит как странник, которому нет места ни в служебной комнате, ни на заводе, ни на улице, ни в доме человека, ни – еще менее – в местах развлечений его.
Заметьте, какой простой язык в проповеди, а между тем владыка Иоанн – прекрасный поэт, он так владеет словом! И кто читал его книги, знает, что это просто сокровище. А здесь, когда все гениально просто, так и ангелов со сто.
Дальше читаем: Добру негде приклонить голову. Как же торопиться его делать, когда нельзя даже на пять минут пригласить к себе – не только в комнату, но даже в мысль, в чувство, в желание. Некогда! И как добро этого не понимает, то пытается стучаться в совесть и немного мучить ее. Дела, дела, заботы, необходимость, неотложность, сознание важности всего этого совершаемого... Бедный человек! А где же твое добро, где же твой лик, где ты сам? Где ты прячешься за крутящимися колесами и винтами жизни? Всё же скажу тебе: торопись делать добро, пока ты живешь в теле. Ходи в свете, пока ты живешь в теле. Ходи в свете, пока есть свет. Придет ночь, когда уже не сможешь делать добра, если бы и захотел.
Но, конечно, если ты на земле, этом преддверии как рая, так и ада, не захотел делать добра и даже думать о добре, вряд ли ты захочешь делать его тогда, когда окажешься среди ночи, за дверью этого существования, вытолкнутый из рассеявшей и развеявшей твою душу суеты земной жизни в холодную и темную ночь небытия. Оттого торопись делать добро! Начни сперва думать о том, чтобы его делать, а потом подумай, как его делать, а потом начни его делать. Торопись думать, торопись делать. Время коротко. Сей вечное во временном. (Это прямо про нас с вами!) Введи это дело, как самое важное дело, в твою жизнь. Очевидно, и к проповеди, и к словесному общению должно приступать с сознанием, что это доброе дело. И если сеющий семя не будет волевым движением это семя бросать в борозду, то как оно прорастет? Сделай это, пока не поздно. Как ужасно будет опоздать в делании добра. Это действительно ужасно, мы священники, знаем, как ужасно С пустыми руками и с холодным сердцем отойти в иной мир и предстать на Суд Творца. Кто не поторопится сделать добро, тот его не сделает. (Очень важная мысль!) Добро требует горячности. (Напомню, что проповедь называется "О семи горячностях духа".) Теплохладным диавол не даст сделать добра. Он их свяжет по рукам и ногам прежде, нежели они подумают о добре. Добро могут делать только пламенные, горячие. Быть добрым в нашем мире может только молниеносно добрый человек. (С таким определением мы еще с вами не встречались "молниеносно добрый человек".) И чем дальше идет жизнь, тем больше молниеносности нужно человеку для добра. Молниеносность – это выражение духовной силы, это – мужество святой веры, это – действие добра, это – настоящая человечность. Поспешности суеты и зла противопоставим доброту, горячность движения в осуществлении добра. Господи, благослови и укрепи!
И дальше перечислены семь горячностей духа, которые, если кто их усвоит, наверное, приведут к святости.
1. Быстрота раскаяния после какого бы то ни было греха – вот первая горячность, которую принесем Богу.
2. Быстрота прощения согрешившего пред нами брата – вот вторая горячность, которую принесем.
3. Быстрота отклика на всякую просьбу, исполнение которой возможно для нас и полезно для просящего, – третья горячность.
4. Быстрота отдачи ближним всего, что может их вывести из беды, – четвертая горячность духа, Богу верного.
5. Пятая горячность: умение быстро заметить, что кому надо и вещественно и духовно, и умение послужить хоть малым каждому человеку; умение молиться за каждого человека.
6. Шестая горячность: умение и быстрая решимость противопоставить всякому выражению зла – добро, всякой тьме – свет Христов, всякой лжи – Истину.
7. И седьмая горячность веры, любви и надежды нашей, это – умение мгновенно вознести сердце и все естество свое к Богу, предаваясь в Его волю, благодаря и славословя Его за всё, т.е. умение всем существом принадлежать Богу сегодня, в этот час, сейчас. Все существо свое вверить Ему.
Здесь же, в этой проповеди, как мы уже читали вам, есть слова о том, что для постижения великих и вечных истин нужна хотя бы минута Божественного молчания в сердце, хотя бы мгновение святой тишины. Не о таком ли молитвенном безмолвии идет речь в Апокалипсисе, когда сидящий на престоле Агнец снял седьмую печать и сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса (Откр. 8, 1)? Об этом молчании многие по-разному говорили. Например, святитель Феофан Говоров, духовник царской семьи, святой человек, говорил, что это молчание "как бы на полчаса" есть воскресение, возрождение России перед тьмой антихриста. Зло шумит, кричит, несется к царству мира, любви, духа, которое царствует в тишине.
А мы с вами это высокое слово безмолвия как бы на полчаса спроецируем в область речевого искусства. Пауза. Пауза действительно может и должна быть говорящей. Отчего случается неуспех той или иной речи, проповеди, доклада, лекции? Оттого, что говорящий главные тезисы или истины своего выступления вам вверяет, не заботясь о том, чтобы вы прожевали предыдущие истины. Как если бы человек раскрыл рот, а ему туда – эклеры: один, другой, третий. Я в свое время смотрел французский фильм – страшный, хоть и комедия. Там был некий кондитер, который не хотел платить мафии; и они приехали, крутые ребята, как сейчас говорят. Толстяк-кондитер сидел и заикался: "А-а... а-а-а... monsieur, monsieur... que voulez-vous? (чего вы хотите?) Je ne vous sais pas (я вас не знаю), je ne vous sais pas". А они ему в рот эклеры: один, второй, третий. До сих пор запомнилось. Он умер потом. Наверное, в десятом классе смотрел.
Так же читаются сейчас доклады. Даже на духовную тему. Подобное впечатление остается и от некоторых интервью. Он еще не ответил толком, и слушателям передачи мысль его еще не вполне ясна, а она, молоденькая корреспондентка, уже следующий вопрос задает ему. Ей не интересно, что он отвечает. Она не заботится о том, чтобы поддержать разговор, понять основную мысль собеседника и донести до слушателя. Нет, ей главное – выпустить на него всю обойму заготовленных ею вопросов, чтобы свою осведомленность и эрудицию показать. А слушателю от таких "эклерчиков" только остается стонать: "A-a... Madame, monsieur! Que voulez-vous dire par la? (что вы хотите этим сказать?), je ne le veux pas (я этого не хочу), je ne le veux pas!.." И, между прочим, тоже умереть можно от несварения желудка.
А ведь есть прекрасные слова: "остановись, мгновенье!" Такой договор был у Фауста с Мефистофелем: как только доктор Фауст настолько сильно привяжется к чему-нибудь земному, что скажет: Остановись, мгновенье, ты прекрасно! – так тут же Мефистофель утащит его душу в преисподнюю. И здесь, с одной стороны, страх тьмы перед глубоким вниманием человека к сущности событий, перед паузой постижения, перед остановкой, перед выходом из бесовского темпа развития событий. А с другой стороны – страх перед молитвенным молчанием. Ибо что может быть прекраснее мгновений молитвенного предстояния перед Богом в тишине? Потому что перед этими святыми мгновениями силы адовы отступают, что и с Фаустом, в конечном счете, случилось, хотя эта история и затемнена несколько современными материалистическими интерпретациями.
И у Горация есть замечательные слова: carpe diem, т.е. лови, хватай уходящий день за подол, пока он не ускользнул; пользуйся моментом; умей провести остаток дня значительно. Или возглас часового: Стой! Стой, кто идет? И риторическая пауза точно дышит бессмертием. Она есть мощнейшее средство благого воздействия на нежные умы и сердца людей. И любая няня это знает. Знают даже какие-нибудь девчонки из третьего класса, которые, чтобы завладеть вниманием, рассказывают друг другу совершенно известные истории про черную-черную улицу, черный-черный дом и т.д. Это так называемая бытовая риторика. Здесь с неизменным успехом используется пауза зловещая. Пауза может быть многозначительная: Позвольте предложить вам выйти... вон! Ведь и в природе перед началом грозы часто тоже тишина устанавливается как бы на полчаса (Откр. 8, 1). В воздухе воцарилась мертвая тишина, – пишут писатели, – не шевелился ни один лист, не видно было прибрежных ласточек, природа словно замерла. Тут на холме показался всадник... без головы. И пошло-поехало.
Пауза может быть говорящая. И пауза может быть, как мы уже видели, святая. Святая пауза возбуждает молитвенное устремление к Богу. Вообще, пауза заставляет человека мыслить, равно как и риторический вопрос. Да и попросту говоря, если вы хотите, чтобы от вашего слова что-то осталось, не торопитесь продавать за бесценок собранные вами тезисы и истины, умейте правильно акцентировать речь.
Так мы подошли к еще одной важной стороне речи, которую можно назвать акцентирование. Как и в каких случаях делать акцент, ставить смысловое ударение? Это очень важный предмет, потому что, действительно, в предложении слова несут разную смысловую нагрузку, и от вас зависит, в какой мере внимание слушателя откликнется на ту или иную вашу мысль. Когда мы делаем ударение, то в действие вступают все перечисленные нами приемы: и интонация меняется, и темп, и звучность – всё меняется.
Я убежден, что среди слушающих мою худость лиц женского пола не найдется ни одной (!) души, которая отважится после сегодняшней лекции закурить сигарету. Ни одной! Так это и запишите вы, магнитофоны. И вот, в зависимости от той силы убеждения, которую внешне вы выражаете в слове, та же сила находится в воле человека. Если ваша речь убедительна, если она дышит искренностью, то слушатель входит в состояние некой нравственной свободы, освобождается, хотя бы на время, от своих привычек. Особенно, если вы умеете не так топорно воздействовать, а высмеиваете порок. Не лиц захваченных пороком, но самый порок высмеиваете, показываете его смешные стороны.
Убежден, например, что среди наших слушателей есть некоторые, которые, как и аз недостойный, не освободились еще от страсти чревоугодия. О, какая это хитрая, какая это лукавая страсть! Что произойдет тогда, когда несчастный студент Богословского института, обезжиренный и обезвоженный, словно лошадка, почуяв снег, доплетется как-нибудь до родимой пятиэтажки? Едва лишь только бедная богословствующая душа взберется на свой третий этаж, как ножки сами собой начнут семенить, почуяв вечернюю трапезу, приготовленную мамочкой. Вынув ключ, вчерашний ребенок, а сегодняшний студент долго не сможет попасть им в замочную скважину, потому что руки трясутся от непонятного чувства, о котором сказано в пословице: Руки загребущие, очи завидущие. Дрожание всех конечностей тела, выделение ферментов питательных, некоторое помрачение взора. Благо, если студент сумеет вымолвить: Господи, помилуй! Как правило, и этого он не выполнит.
И вот так, скажем, над чем-то добродушно и безобидно подсмеиваясь, вы должны находить те слова, те речения, которые выделяются смысловым ударением, и как бы ненавязчиво назидаете через это. Человече, хочешь ли победить страсть обжорства? Знаю, что хочешь. Послушай меня внимательно. Первое (вот уже ручка записывать тянется!), первое: не забудь, сев за стол, окинуть взором предложенные тебе яства: селедку под шубой, вчерашнее азу, сокрывшееся под тушеной капустою, не забудь осмотреть все эти яства и внутренним чувством взвесь: сколько и чего именно ты должен взять на свою тарелку. Если ты произведешь такой мысленный подсчет и взвесишь чувство голода с тем, что представлено мамой на трапезу, ты удержишься, т.е. выполнишь поставленный твоим собственным внутренним чутьем план, и ты не пострадаешь. Но если, почувствовав уже насыщение, по инерции, особенно тогда, когда за трапезой оживленный разговор (вы рассказываете, захлебываетесь от впечатлений, рассказываете о своих лекциях, о своих встречах), и наворачиваете, наворачиваете, а мама от слепотствующей любви услужливо подставляет тарелку за тарелкой, конец будет страшен!
Для чего я это все рассказываю? Для того чтобы наша речь была выразительной, необходимо с чувством, с толком, с расстановкой оформлять мысли и уметь выделять то, что более всего призвано быть понятым, услышанным, принятым.
Предмет "Искусство речи" предполагает не только изучение теоретических основ риторики, но и духовное осмысление служения слову. Риторика же определяется как речь украшенная, т.е. предназначенная к полнокровному воздействию на ум и на эмоции, чувства, дух человека.
Безусловно, перед многими из нас стоят цели более скромные, чем овладение искусством проповеди и обретение собственного духовного слова. Но в любом случае есть задача приобретения навыков публичного выступления.
Бедственное нравственное состояние нашего народа более всего познается по языку, который является лакмусовой бумажкой духа человеческого. В языке отражаются все болезни, которыми объята человеческая душа, да и все общество в целом. Исследуя состояние языка, метаморфозы, которые он претерпевает, мы можем делать многие меткие и верные заключения о таинственных духовных процессах, заквашивающих жизнь социума – народа. Поэтому признаемся смело, что многим из нас еще должно работать над собой, дабы научиться правильно воплощать мысль в слово. Нам необходимо овладевать культурой речи, избавляться от всех грамматических, фонетических и прочих ее недостатков. Особенно, если учесть, что пастырское, катехизаторское, миссионерское служение, помимо частных бесед, в которых мы тесно общаемся с одним или несколькими собеседниками, предполагает обращение к собору слушателей, выступление перед аудиторией, что неизмеримо повышает требования к слову, произнесенному публично, и нашу ответственность за него.
Для того чтобы овладеть мастерством устного выступления, мало постижения теоретических основ, нужны практические навыки. Поэтому наши занятия состоят из лекций и практических семинаров и предполагают активное участие студентов. Но даже и на лекции мы с вами будем вместе составлять слово на духовную тему и рассуждать обо всем, что связано с заданным предметом. Вместе порассуждаем, почему мы выбираем то или иное слово; предпочитаем эту, а не другую синтаксическую конструкцию, дабы выразить лучшим образом мысль – и таким образом вы будете прикасаться к тому словесному творчеству, которое составляет основу проповеднического искусства.
Итак, вместе с вами составим слово (устное выступление) на тему: "Молитва Преподобного Сергия".
Часто священники, особенно новопоставленные, приступая к произнесению слов, испытывают затруднение в том смысле, что приходится говорить о предметах хорошо известных в церковной аудитории – например, о Преподобном Сергии Радонежском или о другом святом. Так вот, тема хорошо известна, а сказать надобно так, чтобы представить людям что-то новое – свое отношение, свое рассуждение, свою мысль, а не повторить в сотый раз чужое изречение и мнение.
Как говорить о Преподобном Сергии, чтобы скучно не было?!
Как говорить о Преподобном Сергии, чтобы не умалить от высоты и святости предмета?!
Как говорить о Преподобном Сергии, чтобы лицом в грязь не ударить?!
Размышляя обо всем этом, приходим к выводу о необходимости находить свой подход и приступ к теме. Нужно уметь смотреть на предмет с неожиданной стороны, тем паче, что предмет этот объемный, глубокий, исчерпать его никто из нас не сможет, поскольку слишком большое расстояние – не временное, а духовное нас отделяет от Преподобного Сергия. Он свят, а мы грешны. Он является воистину обителью Духа Божия, а мы еще не очистились от "духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия".
Несомненно, в наше время всякий, кто взял на себя смелость произносить духовное слово, призван не столько рыться в пособиях, составляя компиляции и аппликации, сколько молитвенно вживаться в самый предмет, прося вразумления у Господа и у того, о ком мы хотим говорить. Дабы слово наше было живо, а не мертво; свежо, а не затхло; интересно, а не скучно; глубоко, а не поверхностно; искренно, а не формально; в каком-то смысле спонтанно, а не затвержено и заучено, что всегда производит на слушателей дурное впечатление. Мы, конечно, не против того, чтобы готовиться к словам и произнесению слова (раз, два и три про себя произнесите его), но против того, чтобы это слово было мертворожденным ребенком, выкидышем. Нам нужно, чтобы это было живое дитя. Поэтому в день Преподобного Сергия мы ставим себе задачу не пересказывать известное житие, но найти в этом благодатном материале такое русло, плывя по которому, наша мысль достигнет цели. А цель – это духовное назидание слушателя; цель – это определенный духовный импульс, который от нашего сердца с Божией помощью должен выйти и отпечатлеться в сердцах наших слушателей.
В слове обязательно должна быть сердцевина. Дурно то слово, которое аморфно и не имеет внутренней стройности, а значит, соразмерности, композиции. Композиция слова – что крона дерева, состоящая из ветвей, веточек, сучков и листьев. Смотришь на дерево, тянущееся к небу, видишь, насколько это совершенное творение – никаких излишеств, все подчинено устремленности к небу, к солнцу. Ствол восполняется отходящими от него вправо и влево ветвями; ветви, обрамленные листвой, придают дереву изящные, совершенные, гармоничные формы, которые отличают живое дерево от сухостоя.
Так вот и мы с вами, приближаясь к размышлению о молитве Преподобного Сергия, просим его положить нам на сердце главную мысль, которая сама собой восполнится, сама нас поведет от начала к концу. И мысль эта, как говорит талантливый современный проповедник о. Вячеслав Резников, "должна быть кристальной".
Слово, как ствол, пусть от корня восходит к вершине и вместе с собою поднимает слушателя. Дабы он не почувствовал головокружения от стремительности восхождения, нужно время от времени дать ему посидеть на той или другой ветви, отходящей от ствола.
Итак, "Молитва преподобного Сергия".
Из самой темы ясно, что главным действующим лицом нашего слова мы избираем не самого угодника Божия, и не его учеников, и не его родителей, а именно молитву, составлявшую, безусловно, нечто весьма существенное, а может быть, и определявшее личность святого.
И когда я утверждаюсь в этом намерении говорить о молитве Преподобного Сергия, то, беря в руки хорошо мне знакомое житие, я тотчас смотрю на него иными глазами и с новым интересом вчитываюсь в знакомые эпизоды. Хочу говорить о сокровенной жизни его сердца, о том, как в нем зачиналась, созревала, возрастала и, наконец, достигала своего совершенства молитва. Ведь ей и был подчинен, по существу, весь подвиг этого святого. Лучше будет все-таки намечать отдельные вехи этого слова, а вам предоставить возможность уже домыслить и довести дело до победного конца. Но все-таки начало и конец, середина, развитие темы пусть будет четко обозначено и предано письменам.
Так мы и начнем, сразу обозначив тему:
Великий молитвенник Земли Русской...
По мне – достойное начало. Обратим только внимание, что подыскано синонимическое выражение к названию. Мы не повторяем слова "Преподобный Сергий". А говорящие, к сожалению, нередко утомляют аудиторию бесконечным повторением одних и тех же выражений. От такого повторения у слушателя вырабатывается молочная кислота, т.е. он внутренне, сам того не сознавая, утомляется и раздражается. Человеческая природа не выносит однообразия, и если мы не будем с самого начала помнить об этом, нас не спасет никакой сан. Будь ты хоть митрополит, но, если у тебя речь будет состоять из клише, штампов – а они запросто усваиваются сознанием, – не получится живого общения с залом. Это нужно иметь в виду.
Великий молитвенник Земли Русской был рожден на свет Божий по молитве своих родителей.
В данном случае "масла масляного", то есть стилистической ошибки, нет. Но тут использован определенный риторический прием – это то, что относится к стилю речи, то, что возбуждает в слушателе желание прикоснуться к тайне молитвенной жизни.
А, немного отступив от составления нашего слова, спрошу: какой прием, какая фигура речи использована в этом предложении? Тавтология. Что это такое? Это риторическая фигура, представляющая собой повторение одних и тех же или близких по смыслу слов. Тавтология часто имеет видимость ненужного повторения. Особенно часто название "тавтология" применяется там, где имеет место повторение однокоренных слов. Но будем отличать, когда тавтология – ошибка (незамеченный и ненужный повтор), а когда – специальный прием.
Вроде бы мы ничего не сказали особенного, но на самом деле тут проходит мысль, глубокая мысль. Называется это на языке психологии или философии "интенция" 51, т.е. тайные намерения говорящего или пишущего. Интенция какая у нас? Сказать, доказать, что так просто великие молитвенники на свет Божий не появляются. "Яблочко от яблоньки недалеко падает". Значит, великие молитвенники потому таковы, что от чрева матери они освещены молитвой.
Далее. Кажется... Такой, видите, безличный оборот с оттенком предположения, сомнения, неуверенности, выражается личное отношение говорящего к слову.
Заметим, что нынешний слушатель вовсе не готов к тому, чтобы его назидали намеренно. Сегодня никакой дидактизм, т.е. поучительность, никакой морализм, т.е. стремление исправить человека словом не проходит. Современные люди настолько устали от обмана, лжи, посягательств на их волю и свободу, что призывы даже нравственного характера ими не воспринимаются. И вовсе отвергаются, если у говорящего присутствует хотя бы малая толика самоутверждения, т.е. он назидает и через это служит бесу тщеславия. И хотя слушатель сам весьма подвержен этой страстишке, ибо все мы отчасти самолюбцы и гордецы, но он на дух не переносит, когда такой честолюбец поучает его с трибуны. Таким образом, чтобы говорить с людьми, надо ощущать себя скромным тружеником, поставленным служить тем, кто превосходит тебя во всех отношениях. Образно говоря, почувствовать себя осликом, на котором Господь въезжает в Иерусалим. Вспомните русскую поговорку: "Не чванься горох перед бобами, будешь сам под ногами". Если ж будешь чваниться, будто представляешь собой нечто, то ничего путного у тебя не выйдет. Аудитория тебя из вежливости, конечно, послушает и помидорами, может быть, не закидает, но облегченно вздохнет, когда такой агитатор, хотя бы и в золотых ризах был, скроется в сумрачной тиши алтаря или просто покинет трибуну.
И вот слово "кажется" выдает в человеке говорящем живую, размышляющую душу. Он оставляет за собой право на ошибку, он ни на чем не настаивает, он с вами делится, оставляя свободу вашу неприкосновенной – вы можете с ним не согласиться. На самом деле эти тончайшие оттенки говорят о творческой свободе, которая присуща говорящему, показывает, что слово у него живое, что он размышляет вместе с аудиторией и таким образом выказывает ей уважение. И надо сказать, что только то слово пробуждает мысль, которое само является плодом размышлений, плодом внутренней не только интеллектуальной, но и душевной, и духовной деятельности. Все это весьма импонирует разборчивому слушателю, заставляет его внимать вам с неподдельным интересом: "Интересно, что это ему там кажется?!" Но мы продолжим.
Кажется, что дар молитвы отрок Варфоломей получил, еще находясь во чреве матери, ибо как иначе объяснить происшедшее с нею на Божественной литургии (по необходимости вы можете пересказать эти несколько эпизодов), когда все явственно слышали словно младенческий крик на Херувимской песне и в завершение службы. Трижды это чудо повторилось.
А я обращаю ваше внимание на формальный аспект нашей речи. Вот, если вы вглядитесь в последнее предложение, оно в синтаксическом отношении весьма богато. Это так называемое сложноподчиненное предложение. В нем имеется несколько придаточных предложений. При этом нет таких однородных придаточных предложений, которые вводились бы повторяющимся подчинительным союзом: "Я опоздал, потому что был занят, потому что не смог перенести встречу... потому что... потому что..." Нет, здесь все пропорционально. Можно найти в этом предложении причастный оборот: "происшедшее... на литургии". Он характерен преимущественно для письменной речи. Есть у нас здесь глаголы прошедшего времени. А впереди стоит глагол настоящего времени: "кажется". Речь получается объемной, она соотносима с настоящим и прошедшим временем. Когда всего понемножку, но без искусственного нагромождения – это не ассорти, а живая русская речь, – получается, что слушатели от вашего слова черпают еще один род удовольствия эстетического порядка, если только вы говорите внятно, не спеша, не монотонно.
Но мы ведем разговор не о том, чтобы ласкать слух аудитории замысловатыми фигурами, а о том, что современный русский человек так же тоскует по хорошей русской речи, как он тоскует и по России, по Отечеству, по Небесному Иерусалиму, воплощением которого были наши русские города и села. Сейчас подлинно русского не встретишь ничего. Словом "Святая Русь" запросто называются даже небольшие рестораны и харчевни на магистралях. И это все утомляет и даже причиняет боль тем, кто верит в Святую Русь, несмотря на происходящее.
На самом деле слово как нечто живое, исходящее из живого сердца, имеет великую силу врачевать, умирять, приносить радость и является одним из высших родов бескорыстной радости, удовольствия, которые получает человек. Сейчас, к сожалению, это мало кому понятно, а вот в XIX веке, когда не было нынешних СМИ (то есть СМИ – средства массовой информации, конечно, были – газеты, журналы, но они, во-первых, так не назывались и, во-вторых, не имели такого глобального охвата и такого воздействия на массы, как теперь), люди ради живого слова могли проделать большое путешествие. Может быть, вы помните такой эпизод из жизни митрополита Платона (Левшина), о котором Екатерина II говорила: "Платон кого угодно может заставить плакать!" Такое у него было слово. Он был нравственной, святой личностью.
И вот митрополит Платон, служа часто и в Кремле, и в дворцовых церквах, вышел как-то раз из алтаря, обошел храм, как бы случайно, и видит – стоит простой мужик, седой, как лунь, борода окладистая. По многолюдству отошел в сторонку и плачет. Митрополит его спрашивает:
– Отче, – уважительно, – ты что плачешь?
– А я, – говорит, – слушаю слово митрополита Платона. А ты слышишь это слово?
– Нет, – говорит, – не слышу, но знаю, что он так говорит, что не плакать невозможно.
Но вернемся к нашей теме. Дар молитвы Преподобный Сергий получил, находясь еще во чреве матери, ибо неоднократно были слышны некие возглашения во время Божественной литургии. Неудивительно (продолжаем мы нашу речь), что и все его отроческие годы были освещены... "Освещены" – это страдательное причастие прошедшего времени, краткой формы. А что в этом слове писать – "я" или "е"? Если от слов "святой", "святость", то "я". А мне кажется, что можно взять корень свет: "освещены".
Дальше давайте взойдем на поэтическую высоту, используем художественный образ, ибо без этого тоже проповедь обойтись не может. Интересно, что образность речи есть мало акцентируемый, но очень важный элемент проповеднического искусства. Из тех, кто в великой степени владел образностью речи, из XIX века можно упомянуть святителя Иннокентия Херсонского. Сейчас его произведения издаются, он уже прославлен как святой. А из XX века я бы назвал новомученика святителя Серафима Звездинского. Его проповеди и воспоминания тоже изданы.
Образность речи состоит в том, чтобы найти такой образ и словом его так написать, чтобы он никогда не забылся слушателю. Образность речи хороша потому, что ее запоминать не нужно, она сама себя запечатлевает в сердце слушающего.
Неудивительно, что все его отроческие годы были освещены немерцающим светом...
А это словосочетание "немерцающий свет" есть в вечерних молитвах.
...незримой миру лампады, которую Сам Господь затеплил в кроткой и незлобивой душе.
Обычное, казалось бы, предложение, но на деле в нем отражается вся красота православной духовности. Протестантские проповеди мы с вами не воспринимаем, потому что они плоски, приземлены, они не в состоянии познать тайну духа человеческого. А вот одно такое предложение говорит, что это слово Божие, слово, которое вбирает в себя всю полноту духовного и культурного наследия Матери Церкви. Да и лучшего образа-то и не подберешь, чтобы в двух словах передать мысль об отроческом сердце, чистота которого превосходит в совершенной степени наши бедные, поломанные, еще вчера, может быть, загаженные, а сегодня уже очищаемые души.
Обратимся, наконец, к слушателям, чтобы они не заснули.
Братья и сестры...
Неплохо, между прочим, что мы не сразу так обращаемся к аудитории, потому что часто привычность скрадывает то, что заложено в самом обращении. А вот так на полпути – хорошо.
Братья и сестры, вы знаете, что своих избранников Господь проводит через горнило испытаний.
Мы поменяли направление нашей речи. Только что было повествование, а тут, видите, прямое обращение к слушателям. Почему проповедь раньше называлась собеседованием? Потому что она предполагает мысленное участие слушателя в самом духовном слове.
Не миновал их и... – А дальше думаем, какое слово употребить? "Святой" – было, "преподобный" – было, "молитвенник" – было, а "печальника" не было. Очень хорошее русское слово "печальник". Печальник об Отечестве нашем. "Земля Русская" была, а "Отечества" не было!
Не миновал их и печальник об Отечестве нашем. Встретив непреодолимые трудности в изучении грамоты, Божий отрок (хорошее словосочетание, почти что иконописное) прибегнул к испытанному средству (не назовем средство молитвой, а назовем как-нибудь иначе) – всем сердцем (используем описательный оборот), всей душой, всем помышлением (так, наверное, и было, ибо весьма он был расстроен; ему угрожали и побои учителя, и выговор родителей), с плачем воззвал он к Небесному Отцу (тоже уместно назвать здесь Бога именно так, потому что слово "отрок" предполагает близость к нему Родителя Небесного) и был услышан.
Между прочим, вы даже обходитесь в этом случае без назидания. Однако – sapienti sat – как говорили в древности: "Мудрому достаточно".
Если вы говорите все слово сами, внимательно и убежденно, то образ отрока, всем помышлением, всем сердцем, всей душой да еще с таким слезным сокрушением молящегося, тотчас дает нам понимание, что такая молитва будет услышана. Так оно и вышло.
Эпизод собеседования с таинственным старцем мы с вами по недостатку времени можем опустить. А вы в качестве самостоятельной работы попробуйте вставить в эту проповедь небольшой рассказ. Он здесь весьма уместен, потому что мы только штрихи жития наметили. Но рассказ нужно написать в заданном русле. Речь идет о том, что по молитве старца отрок, очевидно, сподобился просвещения Божией благодатью. Это была веха в его духовной жизни, предопределившая, возможно, его прощание с миром, поставившая его на монашеское служение и изменившая, конечно же, его детскую, такую неумелую молитву в нечто еще более глубокое, сокровенное. Тем паче, что в житии рассказывается далее, как он постился, воздерживался и от невинных радостей, т.е. всецело был углублен в себя самого, познавал себя посредством молитвы. Вот такой маленький эпизод попробуйте-ка описать самостоятельно. А мы двинемся вперед в составлении нашего слова.
Сегодня... (Опять обратимся к сегодняшнему дню, чтобы наше слово не было бы раритетом, экспонатом в лавке древности.)
Сегодня многие молодые люди помышляют о монашеском служении, но сколь немногие действительно становятся воинами Христовыми. (Так обычно именуют монашеское сословие.) Причина тому… (Вы, кажется, отступили от вашего рассказа, на самом деле вы слушателю даете, как некоему воробышку, посидеть на веточке. Дерево вашего слова растет, а он сидит себе и отдыхает, а потом полетит дальше. Это отступление, несомненно, но сами видите, что оно совершенно связано с темой.)
Причина тому – крайнее непостоянство нашего духа. (Разовьем это отступление.) Утром мы с горячностью свершаем обыкновенное молитвенное правило, а днем, погрузившись в мирскую суету, едва находим в себе силы (так и есть) отбиваться (выразительное слово из разряда разговорной лексики: "от этого человека ни крестом, ни перстом не отбиться!"; "отбился от рук", "отбился от приставаний")…
…едва находим в себе силы отбиваться от потока грязных и грешных… – Вот тоже интересно. Эти два эпитета, два определения: "грязных и грешных", а далее еще и слово "грозящих" – похожи по двум первым согласным и по окончанию. Такое сочетание используется для усиления мысли, и одновременно, если уж вникать в тонкости, они придают некую музыкальность речи. Но только чтобы не было нарочито.
...от потока грязных и грешных мыслей, грозящих увести наше сердце на страну далече. (Устойчивое евангельское выражение из притчи о блудном сыне.)
В молитвенной жизни юного инока, который сокрылся в непроходимых дебрях Радонежских лесов, главным было постоянство. (Можно закончить это отступление достойным образом.) Пусть никто из нас не способен на отшельничество и на труды постнические, но и живя в шумном городе, находясь посреди толчеи людской, мы (ободрим слушателя) вкусим от плода сердечной молитвы в свое время, если будем терпеливы и постоянны в наших малых ежедневных молитвенных трудах.
А теперь я хочу вместе с вами наметить еще несколько вех из жития, которые каждый из вас по желанию может развить в своем будущем сочинении. Я бы предложил остановить внимание еще на таких эпизодах.
Молитва Преподобного Сергия, которая подобна огню или мечу (повествование о его схватках с нечистью), – это уже, конечно, высшая степень молитвы, указывающая на ее силу. Преподобный становится страшен для демонических сил, "в учении его возгорелся огнь". Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им (Пс., 117, 11). Этот эпизод не хотелось бы упустить из внимания.
Еще один эпизод, очень наглядный и образный, – это литургическая молитва игумена Радонежского.
Преподобный Сергий у Престола, на Престоле Святой Потир, сослужащие ему монахи созерцают некий огнь, который, свившись, входит в Чашу. Рядом с преподобным Сергием служит Ангел Господень. Молитва преподобного низводит огнь Духа на Святую Чашу. Да и молитва любого литургисающего священника низводит этот огнь в силу того, что церковное таинство совершается. Однако не все сподобляются видеть, переживать и чувствовать то, что было дано сомолитвенникам святого Сергия.
А мы с вами закончим лекцию еще одним эпизодом, который не хотелось бы упустить.
Молитва аввы Сергия выносила его за грани земного бытия (тут образ сам просится собою), как огненные кони пророка Илию. В день Рождества Божией Матери 8 сентября (по ст. ст.) 1380 года Радонежский игумен молился Богу о победе русского оружия, созерцая как на ладони прошедшее, настоящее и грядущее нашего Отечества.
А закончил бы я это слово, если б действительно пришлось его произнести, таким замечательным историческим свидетельством.
Когда Авраамий Палицын 52, келарь Троице-Сергиевой лавры, в 1610 году впал в совершенное уныние по причине крушения Отечества и уже готов был плакать о погибели Русской Земли, то (как мы читаем в сказании Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиевой лавры) он на заре стал молиться и (видимо, святой человек был) услышал с неба глас Божий: Авраамий! Как ты можешь сомневаться в Промысле Божием над Русской Землею, ибо она и Православие не погибнут, покуда у Престола Божия молятся за Русь три святых: святой великомученик Димитрий Солунский, святитель Василий Великий и Преподобный Сергий Радонежский!
Великий молитвенник Земли Русской был рожден на свет Божий по молитве своих родителей. Кажется, что дар молитвы отрок Варфоломей получил, еще находясь во чреве матери, ибо как иначе объяснить происшедшее нею на Божественной литургии, когда все явственно слышали словно младенческий крик на Херувимской песне и в завершение службы. Трижды это чудо повторилось. Неудивительно, что и все его отроческие годы были освещены немерцающим светом незримой миру лампады, которую Сам Господь затеплил в кроткой и незлобивой душе.
Братья и сестры, вы знаете, что своих избранников Господь проводит через горнило испытаний. Не миновал их и печальник об Отечестве нашем. Встретив непреодолимые трудности в изучении грамоты, Божий отрок прибегнул к испытанному средству – всем сердцем, всей душой, всем помышлением, с плачем воззвал он к Небесному Отцу и был услышан.
(Эпизод собеседования с таинственным старцем)
Сегодня многие молодые люди помышляют о монашеском служении, но сколь немногие действительно становятся воинами Христовыми. Причина тому – крайнее непостоянство нашего духа. Утром мы с горячностью свершаем обыкновенное молитвенное правило, а днем, погрузившись в мирскую суету, едва находим в себе силы отбиваться от потока грязных и грешных мыслей, грозящих унести наше сердце "на страну далече".
В молитвенной жизни юного инока, который сокрылся в непроходимых дебрях Радонежских лесов, главным было постоянство. Пусть никто из нас не способен на отшельничество и на труды постнические, но и живя в шумном городе, находясь посреди толчеи людской, мы вкусим от плода сердечной молитвы в свое время, если будем терпеливы и постоянны в наших малых ежедневных молитвенных трудах.
(Молитва Преподобного Сергия, подобная огню или мечу. Повествование о его схватках с нечистью. Литургическая молитва Преподобного.)
Молитва аввы Сергия выносила его за грани земного бытия, как огненные кони пророка Илию. В день Рождества Божией Матери 8 сентября (по ст.ст.) 1380 года Радонежский игумен молился Богу о победе русского оружия, созерцая как на ладони прошедшее, настоящее и грядущее нашего Отечества.
Когда Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиевой лавры, в 1610 году впал в совершенное уныние по причине крушения Отечества и уже готов был плакать о погибели Русской Земли, то он на заре стал молиться и услышал с небес глас Божий: "Авраамий! Как ты можешь сомневаться в Промысле Божием над Русской Землею, ибо она и православие не погибнут, покуда у Престола Божия молятся за Русь три святых: святой великомученик Димитрий Солунский, святитель Василий Великий и Преподобный Сергий Радонежский!"
Сегодня мы поговорим с вами об особенностях эпистолярного жанра, т.е. о том, как в наше время православные люди могут отвечать на письма, и вообще, какое место в деле проповеди занимает весточка, которую ждут часто с великим-великим нетерпением.
1. Тропари о проповеди и письме
"Яко апостолов единонравнии и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость".
Эта молитва – тропарь трем святителям: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому, мастерам средневекового красноречия и поэтому в какой-то мере покровителям наших занятий. Обратите внимание: равноапостольными их не называют, т.е. апостолам они не равны, но тем не менее нравом, т.е. характером, всем своим душевным устроением они оказываются сравнимыми с ними. Даже в самом построении тропаря сходство: "Яко апостолов единонравнии", а тропарь святым первоверховным апостолам Петру и Павлу, помните, как начинается? – "Апостолов первопрестольницы". А дальше? А дальше совершенно те же слова: "...и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость". Т. е. и те, и другие в равной мере признаются учителями вселенной. Но о чем мы просим их прежде всего? Не о даровании нам учености, а о мире, как раньше сказали бы, во всем мире, о мире во всей вселенной и, что еще важнее, о помиловании наших душ, о великой милости к нам от Владыки и Царя всех, Господа нашего, в Троице споклоняемого.
Вспомним еще один тропарь: "Уст твоих якоже светлость огня возсиявши благодать, вселенную просвети: не сребролюбия мирови сокровища сниска высоту нам смиренномудрия показа. Но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога спастися душам нашим". Вы узнали, конечно, тропарь святителю Иоанну Златоустому. Когда мы его слышим? (Ответ: в дни его памяти.) А еще? (Ответ: в благодарственных молитвах после причащения.) Да, после Причастия, приняв в себя Самого Христа, мы не только благодарим Бога и не только благодарим святителя как составителя Божественной Литургии, но как бы благославляемся им на то, чтобы и нам слово Божие нести людям. Чему учит этот тропарь прежде всего? Молить Бога Слова о спасении наших душ. Т. е. та задача спасения души, о которой говорилось на прошлой лекции, здесь лежит в основе всякого научения. И тогда от слова проповедника, как от слова Иоанна Златоустого, может воссиять благодать, которая усладит, а потому и научит, и просветит всю вселенную. Здесь же сказано и об огне, который должен гореть в сердце и устах проповедника, что соотносится с призывом к подвижничеству, с "movere", о котором также говорилось на прошлой лекции. Вот как много вложено в слова: "Уст твоих якоже светлость огня возсиявши благодать, вселенную просвети".
Чему еще учит нас этот тропарь? Важные слова о нравственных качествах проповедника: "не сребролюбия мирови сокровища сниска", – т.е. не искал он в миру сокровищ, не соблазнял паству свою сребролюбием, но "высоту нам смиренномудрия показа". Бывает, что человек денег-то как раз не ищет, но ему нужны внимание, слава, владение умами людей. Эта слава становится его главным сокровищем и целью, ради которой он совершенствует слово, стремится блистать красноречием. Но нет, у святителя огонь его уст дает возможность воссиять иному сокровищу: смирению нелицемерному, соединенному с мудростью нестяжателя и нетщеславного человека.
А вот еще одна молитва: "Во всю землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое, имже Боголепно научил еси, естество сущих уяснил еси, человеческия обычаи украсил еси, царское священие, отче преподобне, моли Христа Бога спастися душам нашим" 55. А это что? (Ответ: тропарь.) Тропарь кому? (Молчание). Ну, по логике, о ком теперь нам следует вспомнить, если мы начали говорить о трех святителях? (Ответ: о Григории Богослове). Нет, это не Григорию Богослову тропарь, а, конечно же, Василию Великому. Этот тропарь тоже звучит в благодарственных молитвах после Святого Причащения, что также заставляет нас быть особенно внимательными на службе. Бывает, чтец читает, не задумываясь, как обычно, тропарь святителю Иоанну Златоустому, а батюшка выходит из алтаря и спрашивает: "А мы сегодня какую литургию служили? Неужели вы не заметили?" И тогда ошибка чтеца оборачивается ко благу для прихожан, т.к. иначе многие из них тоже могли бы и не заметить, что они участвовали в Литургии Василия Великого.
Давайте к этому тропарю тоже присмотримся повнимательнее. "Во всю землю изыде вещание твое". Знакомые слова, не правда ли? Когда мы их слышим? Да, да, в прокимне "Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их". Этот прокимен звучит в апостольские праздники, причем и вечером, и утром. И еще в дни празднования памяти всех трех святителей. Причем, только на литургии. В день памяти самого Василия Великого чаще другой прокимен исполняется. А еще когда? В обычные, будние дни бывает? Когда? (Замешательство в аудитории.) По четвергам в будние дни. Сегодня на литургии звучал этот прокимен. Наверное, не случайно и наши с вами занятия по четвергам бывают.
Что значит "во всю землю изыде вещание их?" Это ведь не только устная проповедь. "И в концы вселенныя глаголы их" – это и их письма. Не случайно большую часть второй части Нового Завета составляют именно апостольские послания, что имеет прямое отношение к теме нашего сегодняшнего занятия. Послания св. апостолов – это эпистолярный жанр. И вот в тропаре Василию Великому такое же начало: "Во всю землю изыде вещание твое", потому что он оставил нам много проповедей, богословских трактатов и много писем. Как у Иоанна Златоустого и у Григория Богослова, так и у Василия Великого была обширная переписка с самыми разными людьми – и простецами, и мудрецами.
Но вернемся к тропарю: "Во всю землю изыде вещание твое, яко приемшую слово твое, имже Боголепно научил еси". Вспоминаем, о чем мы говорили на прошлой лекции. Каким должно быть слово проповедническое? Помните, "docere". Что это такое? (Ответ: учить.) Да, слово должно быть учительным. Видите, даже не зная римских традиций, но только внимательно слушая тропарь, замечаем это "боголепно научил еси". Значит, и нам надо учится учить, научать наших слушателей. Причем "боголепно" – значит так хорошо, так красиво, так благоговейно, что действительно достойно Бога, так именно, как о Боге учить подобает.
Дальше: "естество сущих уяснил еси". И это важно для нас. Естество, а иначе природу, сущность вещей, уяснил, открыл. Слово проповедническое должно вскрывать суть, прояснять ее, делать понятной, очевидной. Готовясь вещать, мы должны учиться добираться до самой глубины. В прошлый раз говорилось о том, что слово должно быть насущным для слушателя, необходимым, важным, отвечающим на все его самые сокровенные вопросы. А здесь как бы другая грань того же самого. Потому что только тогда и можно достать до сердца слушателя, сказать нечто существенное для него, когда мы не скользим по поверхности, но стремимся проникнуть в суть явлений. Учитываем, записываем все это, складываем как в копилку эти крупицы святоотеческой мудрости, важные для нас. Что должно быть в проповедническом слове? Вот оно: оно должно быть учительным, оно должно открывать нам суть явлений, до которой самостоятельно иногда бывает очень трудно докопаться. Если слово не помогает понять суть, то зачем оно?
Продолжаем: "человеческия обычаи украсил еси". А это с чем соотносится? Переворачиваем странички, заглядываем в материал предыдущей лекции. (Студенты говорят: "delectare" – "слово должно услаждать".) Да, слово должно быть прекрасным, достойным Бога, т.е. боголепным, как мы уже видели. Но здесь тоже есть разница смысловых оттенков. Одно дело – учить о Боге достойно Бога, т.е. хорошо, правильно, совершенно говорить о Боге, услаждая чистотой и красотой слова нашего слушателя. А другое дело, говорить так, что и человеческие обычаи удается украсить, изменить, поднять на более высокий уровень, сделать их тоже прекрасными и достойными Бога. Это уже соотносится с обращением не только к сердцу, но и к воле человека, т.е. с "movere" – призывом к истинному совершенствованию человеческих обычаев.
Тропарь заканчивается такими же словами, как и тропарь святителю Иоанну Златоустому. Самое главное: "моли Христа Бога спастися душам нашим". Т. е. важно стремиться охватить словом как можно больше народу и проникнуть, точнее, помочь Божьему слову проникнуть во все концы вселенной. Важно, чтобы слово было боголепным и способствовало украшению человеческих обычаев; важна и учительная его сторона, и особенно направленность на постижение сути, но в центре всего этого должно быть спасение души и проповедующего, и слушателей. В этом, если хотите, как раз и спрятана суть всего изучаемого нами. Потому что если какое-то из перечисленных свойств слова станет для проповедника самодовлеющим и заставит забыть о спасении души, то оно сразу потеряет смысл, сразу станет ненужным, несущественным.
Вслушаемся теперь и в тропарь третьему святителю: "Пастырская свирель богословия твоего риторов победи трубы, якоже глубины духа изыскавшу, и доброты вещания приложишася тебе. Но моли Христа Бога, отче Григорие, спастися душам нашим". И здесь, как видим, каждое слово имеет прямое отношение к нашему предмету. "Пастырская свирель богословия твоего", – пастырь, подобно пастуху, играя на своей замечательной свирели, свирели богословия, ведет за собой словесных овец. С чем это соотносится из предыдущего нашего занятия? Здесь прямая связь с тем же "movere", тем более что среди значений этого слова есть и "играть, бряцать" на каком-то музыкальном инструменте. Слово истины вызывает, влечет за собой. Слово у богослова такое, что ты не можешь за ним не идти и, как овца, послушно начинаешь двигаться за пастырем по пути духовного восхождения. И больше того сказано: "риторов победи трубы" – т.е. тех самых риторов, у которых мы с вами в прошлый раз учились, которые умели громогласно призывать народ и подвигать его на большие дела; этих самых античных риторов побеждает мягкое, тихое, нежное звучание пастырской свирели богословия святителя.
Важно здесь для нас с вами и само это противопоставление, противостояние античной традиции и восточной святоотеческой традиции, идущей от апостолов, потому что и вообще средневековое искусство слова, красноречие византийское, и, в частности, эпистолярный жанр, т.е. искусство писать письма складывались на основе и противоборства, и соединения этих двух традиций. Как могла пастырская свирель победить оглушительные трубы ритора? Потому и победила, что святитель Григорий Богослов, как и оба других святителя, был широко образованным человеком, и он хорошо знал эту античную традицию; может быть, в годы учения даже и упражнялся в искусстве ведения риторической беседы. А как иначе? Противника можно обезоружить, если ты относишься к нему серьезно, учитываешь традицию, в которой он воспитан, и хорошо изучил все его сильные и слабые стороны. Но еще важнее то, конечно, что победа достигается силою Божиею, потому что святителю дана власть от Бога, и он тоже учил как власть имеющий.
С этим связаны и следующие слова тропаря: "якоже глубины духа изыскавшу". Только что мы говорили о Василии Великом, что он "естество сущих уяснил еси", т.е. он учит именно в суть всматриваться. А здесь еще больше – указание на изыскание, исследование, изучение глубин духа. Не просто сути надо искать, но достигать глубины духовной. Вот тогда-то, на самом деле, и открывается подлинная суть явлений, если они в Боге постигаются. Тогда выявление этой сути действительно приближает к спасению души, молитвенное прошение о котором завершает и этот тропарь.
И, наконец, речь о доброте приложившейся, т.е. данной ему Богом и удержанной, сохраненной, ставшей неотъемлемым его свойством. "Доброта" на церковно-славянском языке – это очень многозначное слово. Оно обозначает и привлекательную наружность, т.е. внешнюю красоту слова, его изящество, блеск, великолепие, украшенность, что, как мы знаем, опять же соотносится с "delectare". Слово "доброта" указывает и на ценность, достоинство, важность, превосходство, величие, даже на ту особую славу, какую может стяжать пастырское слово, что, очевидно, опять напоминает о его притягательности и власти, Богом ему данной. Это слово предполагает и собственно доброту как обладание не только внешним, но и внутренним совершенством, а значит, и милосердием, которое одно может приблизить к Царствию Небесному и подлинно "docere" – научить пути ко спасению. Наконец, синонимом доброты является слово "благодать", которое, как знаем, во всей полноте свойственно только Богу единому, а истинного богослова, как и богослова Григория, вводит в сонм чад Божиих и святых Его. А все это вместе, как видим, еще раз дает нам новые оттенки для постижения нашего предмета – искусства речи, которое можно назвать и добротой речи, нанося последний мазок в картине осмысления тропаря святителю Григорию, ибо одним из значений слова "доброта" является и значение "искусство".
А теперь давайте прочитаем и разберем одно из писем самого святителя Григория Богослова, где речь уже пойдет не об искусстве слова вообще, а именно об эпистолярном жанре, до изучения которого мы, наконец, с Божьей помощью добрались. Письмо адресовано некоему Никовулу, ничем особенным, кроме этого письма, в истории не прославившемуся. А название его как раз имеет прямое отношение к теме сегодняшнего нашего урока: О том, как писать письма. В собрании творений святителя Григория это том второй: Письма, с. 426, письмо 19.
Из пишущих письма (ты и об этом меня спрашиваешь) одни пишут длиннее надлежащего, а другие слишком коротко; но и те и другие погрешают в мере, подобно стреляющим в цель, из которых одни не докидывают стрелы до цели, а другие перекидывают ее за цель, в обоих же случаях равно не попадают в цель, хотя ошибка происходит от противоположных причин.
Итак, еще одно важное учительное для нас слово – это мера. Мера, которая должна соблюдаться при написании письма. Как же определить ее?
Мерою для письма служит необходимость. Не надобно писать длинного письма, когда предметов не много; не надобно и сокращать его, когда предметов много.
Иногда мне говорят: "Зачем писать такие длинные письма?" А как не писать, если человеку часто важен не столько ответ на вопрос, сколько внимание к нему. Часто не сам ответ убеждает, но именно внимание, время, затраченное на написание письма, то тепло, какое в него вложено. Бывает и иначе, когда человек ждет краткого ответа по сути дела. А отвечающему хочется показать себя, свою осведомленность, начитанность. Письмо тогда получается длинным, а до существа заданного вопроса так добраться и не удается, и адресату становиться скучно и тоскливо от такой переписки. Поэтому одним из показателей соблюдения меры является, прежде всего, понимание вопроса и четкость содержательного ответа на него.
Можно сказать, что мера напрямую связана именно с пониманием сути. А способность постигать суть, как следует из предыдущего нашего разбора тропарей, зависит от глубины духовной жизни отвечающего на письмо. А как ее измерить? Бог весть. Конечно, надо все время памятовать о спасении души адресата и своей собственной, а для этого каяться, причащаться и, безусловно, молиться. Молитва и рассуждение помогут соблюсти меру. А как это конкретно получается, мы поговорим в следующий раз и будем учиться этому практически в течение всего учебного года, отвечая на письма, которые приходят к нам в храм и на радиостанцию "Радонеж". А пока завершим это рассуждение о мере чисто техническим советом Григория Богослова: Чтобы соблюсти меру, необходимо избегать несоразмерности в том и другом.
Следующий важный для нас совет святителя касается ясности: … а в рассуждении ясности известно то, что надобно, сколько можно, избегать слога книжного, а более приближаться к слогу разговорному. Здесь особенность именно эпистолярного жанра. В докладе "слог книжный", вообще говоря, допустим, хотя это и не очень хорошо. В статье слог книжный допустим, а вот письмо должно приближаться к слогу разговорному. Короче же сказать, то письмо совершенно и прекрасно, которое может угодить и неученому и ученому, – первому тем, что приспособлено к понятиям простонародным, а другому тем, что выше простонародного. Если ты письмо пишешь слишком сложно, то человек неученый тебя вообще воспринимать не будет. А если написал слишком по-простонародному, то человек ученый будет на тебя смотреть как бы свысока, ему будет казаться, что ты его учить не можешь. Таким образом, и здесь нужна своя мера: с одной стороны, близко к простонародному, а с другой – немного выше его. Потому что одинаково не занимательны – и разгаданная загадка, и письмо, требующее толкования. Если мы в лоб пишем, не загадывая никакой загадки, не пытаясь осторожно, может быть, даже иносказательно выразиться, а с размаху рубим, что думаем; безапелляционно выдаем прямым текстом свое мнение – то это не занимательно. Человек сразу будет сопротивляться такому давлению на него, такой "разгаданной загадке", такой неделикатности, бестактности. Но если мы напишем слишком сложно, со множеством всяких намеков, то это тоже не годится. Это еще поискать надо будет человека, который станет разгадывать ваши загадки. Т.е. и здесь тоже должна быть мера и в том, и в другом: с одной стороны, непрямое высказывание, а с другой стороны, не слишком запутанное, так, чтобы догадаться все-таки человек мог.
Если мера, касающаяся соразмерности писем, зависящей от глубины проникновения в суть явлений и глубины духовной жизни человека, соотносится с задачей "docere" и спасения души человека, то мера, касающаяся ясности, связана с привлекательностью письма, его способностью затронуть адресата, и, следовательно, соотносится с задачей "movere". Тому, кто имеет власть над своими грехами, Бог даст и другого человека увлечь своим тонко продуманным и в меру определительным словом. Ну а дальше, естественно, и святитель Григорий Богослов подводит нас к решению третьей задачи, а именно "delectare" – приятности, усладительности речи при написании писем.
Третья принадлежность писем – приятность. А сие соблюдем, если будем писать не вовсе сухо и жестко, не без украшений, не без искусства и, как говорится, не до чиста обстрижено, т.е. когда письмо не лишено мыслей, пословиц, изречений, также острот и замысловатых выражений; потому что всем этим сообщается речи усладительность. Вот вам, пожалуйста, набор средств, помогающих сделать речь усладительной, кстати, не только в письмах. Пословицы, изречения из Священного Писания, остроты и шутки, замысловатые выражения, в качестве которых могут использоваться стихи, цитаты из литературных произведений, строчки из песен, может быть, даже что-нибудь из студенческого фольклора или из приходского юмора: "Рыба, рыба, рыба-кит, он загадки говорит".
Однако же и сих прикрас, – продолжает святитель, – не должно употреблять до излишества. Без них письмо грубо, а при излишестве оных – надуто. Ими надобно пользоваться в такой же мере, в какой – красными нитями в тканях. Запомним этот образ. Он и в газетах прошлых лет часто использовался: Через все его выступление красной нитью проходила мысль... о... необходимости перестройки.... Да. Красные нити, вплетенные в рисунок ковра какого-нибудь таджикского, придают ему нарядность и, действительно, веселят, радуют, услаждают взор. Но если их много, то ковер становиться кричащим, вызывающим, в нем появляется что-то вульгарное, как в женщине в красном брючном костюме. Допускаем иносказания, но не в большом числе, и притом взятые не с позорных предметов. Действительно, очень осторожно надо обращаться с иносказаниями, чтобы за слишком яркими, запоминающимися образами не потерялось главное; чтобы образы, взятые с позорных предметов, не увлекли наше воображение, не запечатали наше сознание грязью и вожделениями мира сего.
А противоположения, соответственность речений и равномерность членов речи предоставляем софистам. Т.е. в письме совершенно ни к чему специально добиваться особого построения фраз, подчеркнутой изысканности в выражениях, употреблять сложные фигуры речи. Это может быть хорошо для публичных выступлений, для устной речи, и проповедник, во всяком случае, не согрешает, если будет их сознательно использовать. В письме же такое будет лишнее, т.к. это камерный жанр. А мы всю эту фигурность, все это сложное выстраивание речи специальным образом оставим софистам. Но дальше, смотрите, какое ценное для нас замечание: Если же где и употребим (такие специальные риторические фигуры, по-нашему говоря, технические приемы), то будем сие делать, как бы играя, но не выисканно. Как бы играя, легко, "не выискано", не искусственно. Мы не будем в письме специально подсчитывать, сколько глаголов мы употребили, сколько прилагательных, сколько наречий, и в каком порядке они выстроены. Мы должны все это знать, должны уметь пользоваться лексическими средствами, но знание сие должно быть внутри нас. А содержание письма должно выливаться, как бы играя, из самого сердца. Так же, как хороший художник, зная, как должно строить перспективу, зная, какое соотношение должно быть между деталями, тем не менее, не занимается в процессе творчества всеми этими измерениями, но пишет картину по вдохновению, как сердце подскажет. А потом, если измерить, то все окажется правильно соразмерено. Как в рублевской Троице, если начать измерять, то увидишь, что там все математически точно до миллиметрика вымерено. Но очевидно, что если бы преподобный Андрей занимался отмериванием деталей с помощью циркуля и линейки, то он бы не смог создать столь целостный и совершенный образ. Он создал его, потому что все каноны знал очень хорошо, они были сердцем его усвоены, а сердце молилось, и поэтому Господь Сам водил его рукой, располагая все детали мерой и числом и одновременно не давая ни на минуту забыть о всем полотне в целом.
А концом слова будет, что слышал я от одного краснослова об орле. Видите, самим письмом своим святитель Григорий тоже показывает, как надобно писать письма. Все письмо было полно наставлений, общих рекомендаций, т.е. давался ответ на вопросы по существу дела. А в конце письма он приводит что-то вроде притчи, которая украшает и его письмо. Когда птицы спорили о царской власти и другие явились в разных убранствах, тогда в орле всего прекраснее было то, что он и не думал быть красивым. То же самое должно всего более наблюдать в письмах, т.е. чтобы письмо не имело излишних украшений и всего более подходило к естественности. Видите, как интересно. Об услаждении, об особой заботе о приятности речи два раза сказал, а затем как бы снял эту мысль, ибо если ты специально будешь думать об этой красивости, то ничего у тебя не выйдет. Делай это, как бы играя, делай это легко, делай это свободно и оставляй свободу тому, кто будет читать твое письмо. Самое главное, чтобы всё в твоем послании было естественно.
Вот что о письмах посылаю тебе в письме! Может быть, взялся я не за свое дело, потому что занимаюсь важнейшим. Прочее дополнишь сам собственным своим трудолюбием, как человек понятливый, а также научат сему люди опытные в этом деле. Т.е. и всего сказанного недостаточно для написания писем, если мы сами не будем трудиться, если мы сами не будем искать опытности в этом деле. Все равно самое главное получаем мы из собственного опыта.
Теперь, памятуя об условности всяких схем и таблиц, попробуем все то, что было сказано выше, свести в одну табличку, которая нам поможет еще раз повторить самое существенное, прояснит связи между затронутыми темами и облегчит запоминание пройденного материала. Поскольку в данный момент мы не письмо пишем, то можно позволить себе уподобиться софистам и обратить внимание на те соответствия и ту симметрию, какие естественным образом присутствовали во всем сказанном.
Душа человека, согласно святоотеческой традиции, проявляется в трех видах действий: мыслях, желаниях и чувствах. Источником каждого из этих действий являются, соответственно, ум, воля и сердце. Это мы зафиксируем с вами в первом столбце нашей таблички. Об этом устроении человеческой души хорошо знали античные риторы, и поэтому, готовясь к своим выступлениям, они ставили перед собой триединую задачу: "docere, movere, delectare". Запишем во второй столбец. Чтобы не запутаться, дадим здесь и наборы значений этих латинских глаголов.
Дальше. Господь наш Иисус Христос как Бог не имел нужды в каком-либо предварительном выделении задач своей проповеди, но мы можем видеть, как Его ведение о трисоставности человеческой души воплощалось в Его действиях и словах. И поэтому, внимательно вчитываясь в свидетельства евангелистов, мы можем отметить для себя, что Он учил Царствию Небесному, что целью Его проповеди было спасение душ тех, кто Его слушал, и наших тоже. Мы помним, что Он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, потому что действительно имел эту власть от Отца и Сам был безгрешен. Мы запомнили, наконец, из предыдущей лекции, что народ слушал Его с услаждением. И из всего этого можем заключить, что и в Его проповеди естественным образом реализовывалась триединая задача древних в ее облагороженном и возвышенном виде, являя нам полноту совершенства настолько, насколько мы способны ее воспринять нашим падшим человеческим разумением. Рискуя навлечь на себя нарекания за излишний схематизм и чрезмерное упрощение, все же зафиксируем это в третьем столбике нашей таблицы.
Сегодня мы с вами разобрали очень маленькие кусочки из Священного Предания Церкви, воплотившиеся в тропарях трем угодникам Божиим, трем святителям – Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому, и из этого попытались сделать выводы о том, каким должно быть слово истинного проповедника Христова. Получилось более пространно и, наверное, более спорно. Это изыскание менее авторитетно, в нем больше самодеятельности. Но все же и его результатам в еще более огрубленном виде отведем место в нашей схеме. Это четвертый столбец.
Наконец, в пятом столбце мы кратко сформулируем ту триединую задачу, какую поставил перед нами святитель Григорий, указав на необходимость соблюдения меры при написании писем: меры в объеме письма, меры в ясности изложения и меры в использовании украшений эпистолографии. О горизонтальных связях, т.е. о том, что получилось в каждой строчке таблицы, каждый пусть поразмыслит самостоятельно.
Итак, мы провели некоторое теоретическое исследование, касающееся целей и задач проповеди в рамках эпистолярного жанра, и сопоставили ее с устной проповедью. В следующей лекции мы поговорим об основных принципах написания писем, выработанных византийской эпистолографией к Х в., и о конкретном опыте переписки. Мы также постараемся показать, как именно описанные теоретические положения воплощаются в работе над письмами; как, двигаясь чуть ли не на ощупь, методом проб и ошибок, можно учиться соблюдению меры в этом деле в поисках царского пути, если только Бог даст.
|
Душа человека |
Триединая задача античных ораторов |
Евангельские свидетельства о слове Христовом |
Свидетельства из тропарей святителям о свойствах слова проповеднического |
Триединая задача при написании писем
по святителю Григорию Богослову |
|
Ум
(мысли) |
Docere – учить, обучать,
преподавать,
объяснять |
Учил Царствию Небесному;
цель проповеди: спасение души |
Слово учит постигать суть явлений;
учит духовной глубине, ведет ко спасению души |
Соблюдение меры в выборе объема письма в зависимости от сути вопросов и духовной глубины |
|
Воля
(желания) |
Movere – приводить в движение,
побуждать к подвигу, действовать,
вызывать, волновать, потрясать, играть |
Говорил со властию (власть имеет тот, кто сам научился Царствию Небесному, кто сам соблюдает заповеди) |
Слово ведет за собой,
как пастырская свирель, как золотые уста, в которых огонь; оно величественно и совершенно, оно изменяет и украшает человеческие обычаи |
Соблюдение меры в ясности – между книжностью и разговорностью языка, между прямым высказыванием своей мысли и ее загадочностью, деликатностью, тактичностью |
|
Сердце
(чувства) |
Delectare –услаждать,
восхищать,
радовать,
веселить,
доставлять
удовольствие |
Народ слушал Его с услаждением, т.к. это было слово истины, сокрытой в сердце каждого слушающего |
Слово боголепно, т.е. достойно Бога; по форме оно красиво и изящно; по содержанию – несет душе мир, добро, милосердие, благость |
Соблюдение меры в использовании украшений: цитат, пословиц, шуток и замысловатых выражений |
Выше, говоря об эпистолярном жанре, мы упустили одну важную вещь: не объяснили, откуда пошло такое название. Epistole по-гречески – это и есть письмо. Отсюда жанр письма и получил название эпистолярного.
Теперь, прежде чем говорить собственно об особенностях написания писем, я очень кратко расскажу вам о принятой в исторической науке периодизации жанра письма. Это не столь важно для нашей практической работы, но может иметь значение хотя бы для того, чтобы вы лучше ориентировались в том, как этот жанр развивался. И когда вы будете изучать историю Церкви и историю Средних веков, вы этот материал в какой-то мере вспомните и он обогатит ваше общее знание.
Жанр письма возникает в византийской литературе именно как литературный жанр в результате взаимодействия двух традиций. Когда мы разбирали тропарь святителю Григорию, мы касались этого взаимодействия. Напомню эти слова: "Пастырская свирель богословия твоего риторов победи трубы, якоже глубины духа изыскавшу, и доброты вещания приложишася тебе. Это можно отнести и вообще к взаимодействию античной и ближневосточной литературных традиций, т. к. громогласные трубы риторов постепенно побеждаются пастырскими свирелями восточных богословов, продолжающих традиции апостольских посланий. Но, побеждая, ближневосточная традиция впитывает в себя все самое лучшее, самое ценное из античности.
Процесс развития жанра заключался в изменении соотношения информационной стороны письма и художественных приемов эпистолографии.
IV–V вв. – ранневизантийский период истории жанра 56. А если помните, три святителя, о которых мы говорили в прошлый раз, жили в IV веке. Для содержания писем в это время характерна большая значимость тематики, для формы – тесная связь с античными традициями. Содержание, суть излагаемого – на первом месте, а следование античной традиции заставляет добиваться совершенства формы при достаточно заметной лаконичности посланий. Пример такого послания как раз и был в центре нашего с вами внимания на прошлом занятии.
VI–IX вв. – переход от ранневизантийского к средневизантийскому периоду. Причем для VI–VII вв. характерно то, что письма этого времени представляют собой скорее философские трактаты, а в VII–IX вв. происходит оживление эпистолярного жанра в связи с иконоборчеством. Обрядовая сторона касается всех, никто не остается равнодушным, письма по этому поводу получают большое значение, широко распространяются, публикуются и сохраняются; поэтому и до нашего времени дошло много писем той поры.
X–XIV вв. – средневизантийский период.
Происходит существенная творческая переработка античного наследия, особенно в частностях. Форма начинает превалировать над содержанием. Усложняется придворный церемониал, благодаря чему усиливается увлечение панегириками императорам и их приближенным. В результате чего письма становятся менее содержательными с событийной точки зрения, более абстрактными и обобщенными. В них преобладают идеи неопределенности временного и земного пространства, что достигается:
– посредством стандартных штампов образной системы (клише);
– нарочитым использованием редких географических названий;
– употреблением обобщенных названий народов вместо конкретных.
Впрочем, сохраняются и чисто деловые письма.
Именно в X в. формируются основные принципы составления писем, выработанные византийской словесностью, о которых мы поговорим подробнее ниже.
XIV–XV вв. – последний период византийской эпистолографии.
Вследствие исторических событий (наступления турок) и идеологических причин (расширения контактов с Западом) письма получают большое политико-философское содержание, и лучшие античные традиции возрождаются теперь на этой новой основе.
Ни у античных авторов, ни в ранневизантийский период никакие особые принципы написания писем не формулировались. Письма писали, но никто не анализировал, как именно. И даже то письмо святителя Григория, которое мы разбирали в прошлый раз, – это единичный случай, в котором, как мы помним, дан некоторый обобщенный подход к написанию писем, обращающий внимание на необходимость соблюдения меры (в длине письма, в ясности изложения, в окрашенности речи). А в X веке вырабатываются уже принципы написания писем, некоторые законы, которые становятся всеохватывающими. Если святители учитывали эти законы интуитивно, заимствуя красоту и соразмерность речи у античных риторов, а более опираясь на апостольские послания и доверяясь водительству благодати Божией, то к X в. эти правила осознаются и формируются и так же входят в христианское наследие, как и творчество отцов Церкви. Теперь с ними вынужден считаться всякий человек, на какую бы тему он ни писал.
Что же это за принципы, которые должны были получать отражение в каждом письме?
1. Письмо должно соответствовать расположению, настроению не автора, а адресата.
Вспомним первую строчку нашей таблицы, вспомним, что говорили об этом, размышляя о слове Господа нашего Иисуса Христа, которое всегда было насущно именно для тех слушателей, какие были тогда перед ним. Шла у нас речь, если помните, и о том, что каждый проповедник должен всегда ставить перед собой вопрос о том, чего ждет от него та аудитория, с какой он собрался беседовать. А здесь задача легче. Только об одном человеке, о его интересах, запросах, настроении надо нам думать, приступая к письму. Если мы не отвечаем на его прямые вопросы и не угадываем его явные, а иногда и тайные желания, то письмо наше цели не достигнет. Есть здесь еще одна важная закономерность, опытом дознанная. Если сумеешь сказать что-то очень важное и существенное для одной души, то оно может оказаться потом полезным и для других. Поэтому-то и для нас с вами будет очень полезно начинать наши практические опыты проповедования с ответов на письма отдельным конкретным адресатам.
2. Homilia-формула: письмо должно представлять собой некую замену устного общения и создавать иллюзию такого общения.
Знаете, что такое "гомилия"? Это греческое слово буквально переводится как "беседа". Причем слово "беседа" включает в себя два смысла. В первом смысле эта беседа понимается как проповедь, выступление. И именно этот смысл, пожалуй, в первую очередь присутствует и в нашем предмете. Раньше у нас на первом курсе преподавалось "Искусство речи" как подготовительный этап, а на третьем – "Гомилетика", или "Искусство проповеди". Название предмета "Гомилетика", как мы видим, и происходит от этого слова "гомилия" – "беседа" в смысле "проповедь".
Есть еще и второй смысл у слова "гомилия" – это "диалог", "разговор", "общение с людьми". И это уже имеет прямое отношение к письму. Но и не только к нему. Почему у нас в храме занятия, которые проводятся по воскресеньям и средам, называются именно беседами? Потому что в первой их части о. Артемий рассказывает что-то, проповедует, т.е. идет беседа в первом смысле, а во второй их части он отвечает на вопросы христиан. Наши прихожане пишут записочки, батюшка на них отвечает. Таким образом, во второй части этих встреч происходит именно диалог или беседа во втором смысле. И такой же диалог, такая же беседа должна происходить между адресатом и тем, кто пишет ему письмо. Вернее, письмо служит заменой прямого общения и должно создавать иллюзию такого общения. Это и есть гомилия-формула.
3. Parousia-формула. Письмо должно создавать иллюзию присутствия.
Слово "парусия" буквально и означает "присутствие". Иллюзия общения и иллюзия присутствия, безусловно, вещи сходные. По смыслу их можно обе отнести ко второй строчке нашей таблицы, т.к. именно такое общение может взволновать, задеть, заставить задуматься, а может быть, и измениться. В чем же разница? В том, наверное, что "беседа" – это более общее понятие. Не случайно в нем содержится два смысловых оттенка: проповеди и диалога. Проповедь может быть и записана, диалог тоже может быть опубликован. Известно, что в таких диалогах-интервью нередко совершенно стирается личность собеседников, особенно корреспондента. Не секрет, что часто такие интервью полностью конструирует тот человек, к которому обращается журналист, а дело последнего – аккуратно записать, расшифровать, отредактировать и потом еще в кассе деньги получить за выполненную работу, за безразличие к существу беседы, за чисто прагматическое отношение к материалу, за отсутствие своего присутствия. И если в интервью, даже в устном, такая в прямом смысле иллюзия общения не только возможна, но даже поощряется эфироманами, то в письме ничто подобное недопустимо. В письме общаются две личности. И если, выводя строчки письма, ты не всматриваешься в душу адресата и не вкладываешь в каждое слово своей души, то ты парусия-формулу не выполняешь.
Вот вам пример такой парусии. Недавно я получила письмо от одного заключенного. Он пишет, что давно не перечитывал моих писем, т.к. в сердце было что-то вроде обиды или огорчения оттого, что я долго не отвечаю ему. Но вот взял в руки письмо, полученное год назад, и был поражен: "Оно как будто вчера написано; оно отвечает на все мои сегодняшние вопросы; я понял, почему Вы мне так долго не пишете: в этом письме уже все содержится". И впечатление от письма такое, по его словам, как и год назад, только гораздо сильнее: "Как будто непосредственно поговорил и получил и назидание, и вразумление, и утешение". Вот что значит иллюзия присутствия.
Интересно заметить еще, что это греческое слово переводится еще и как "прибытие, приход, пришествие". И у евангелиста Матфея в словах: как молния исходит от востока и видна бывает до запада, так будет пришествие Сына Человеческого (Мф. 24, 27) – на греческом языке тоже стоит "parousia". Поэтому слово, присланное в письме, должно быть тоже как огонь, как молния, поражающая в самое сердце. От этого слова у нашего адресата должно оставаться ощущение прихода к нему, посещения его Самим Господом. Вот как в широком смысле следует нам, в конечном счете, понимать эту парусия-формулу.
4. Формула philophronesis: письмо должно выражать дружеское расположение. Если в твоем сердце зло, обида или раздражение против адресата, то не спеши писать ему. Если ты сказал обидное, колкое слово и увидел, как оно поранило человека, то часто это можно успеть загладить, тут же попросив прощения или даже взглядом выразив свое сожаление о допущенной грубости или неловкости. А если ты отправил такую змею в конверте, то человек может и вообще не ответить от огорчения. А если и ответит, то сколько времени пройдет, пока до тебя дойдет эта его реакция и ты спохватишься, напишешь ему что-то утешительное? Да еще пока это утешение дойдет до него, сколько времени душа будет испытывать боль, разочарование, уныние, может быть, даже отчаяние? И ведь чем дольше находится человек в таком состоянии, тем труднее ему утешиться и тем труднее будет вам вернуть его доброе расположение к себе. А в нашем случае страшно еще и то, что такой недобрый ваш ответ, обличение или менторское поучение может человека и от Бога отвратить, в Его милосердии заставить сомневаться. И грех на вас будет. Даже равнодушное письмо отправлять опасно. Если люди обращаются к нам как к катехизаторам, как к людям, ходящим в церковь и старающимся жить по заповедям, то им нельзя ответить отпиской. Если отписка придет из какого-нибудь РЭУ или ДЭЗа, и то человек может сильно расстроиться. Но это-то хоть понять можно. От людей, сидящих там, от чиновников особого тепла душевного и не ждут, а от нас с вами ждут и внимания, и знаний, и жертвенности, коль скоро мы называемся христианами. Поэтому если сердце твое не готово выразить хотя бы малую толику душевного расположения, то лучше вообще не пиши, не тревожь зря человека, лучше помолись о нем. Может быть, Господь как-нибудь иначе его утешит.
Письмо с этой точки зрения может оказаться и для нас, и для наших адресатов намного значительнее проповеди или другого публичного выступления. Если лектор плохо знает свой предмет, занудливо объясняет, не беспокоится о том, как его поймут, то студентам будет скучно, но не больно, это их не поранит. Мы тебе безразличны, и ты нам не нужен. Не будем ходить на твои лекции, и всё! А с письмом всё иначе. Человек обращается к вам, в какой-то мере открывая себя, делясь своими немощами, жалуясь на свои проблемы, выражая свои сомнения. Особенно, если это письма на "Радонеж". Ведь слышат люди добрые слова по радио и думают, что эти проповедники их поймут. Они не представляют себе, как заняты все батюшки. И вот если мы, помогая священнику, не сумеем отнестись к ним с любовью, то они и в нем разочаруются, и "Радонеж" больше слушать не захотят, и в церковь могут не пойти. Поэтому работа с письмами, хотя она и тяжелая, и незаметная, может оказаться намного ответственнее, чем работа проповедника или оратора. С холодным сердцем, без дружелюбного отношения к адресату за нее лучше не браться.
5. При написании письма надо уметь пользоваться клишированными фразами. Что такое клишированные фразы? Это определенные традиционные выражения, с помощью которых оформляются, например, начало и конец письма. Это стандартизированное обращение к адресату, например: "Уважаемый раб Божий такой-то" или "Приветствуем вас, дорогие друзья". Они могут зависеть от титулов: "Ваше преосвященство...". Или когда мы какое-то прошение пишем на имя ректора: "Его высокопреподобию ректору ПСТБИ прот. Владимиру Воробьеву", – это клишированная фраза, которая даже на специальном листочке вывешена у двери учебной части нашей. Клише – это и униженное, и смиренное обозначение самого себя. Таким клише пользоваться очень полезно, даже если человек на самом деле себя таковым "худым и недостойным рабом" и не считает, но само употребление подобного наименования помогает душе хотя бы на некоторое время наступить на свое высокоумие и гордыню. Если человек начинает свое письмо к духовному лицу, например, словами: "Пишет Вам недостойный, погрязший в грехах студент Богословского института...", – то это может расположить к себе адресата, т.к. такие слова свидетельствуют, по крайней мере, о том, что человек хотя бы знает, что грехи – это плохо, что в них надо каяться; а тот, кто кается, тот и на самом деле может начать себя видеть ниже других. Или фраза в конце письма: "Простите меня, грешную, за то, что осмелилась высказать свое мнение по этому вопросу, хотя Вы, наверное, и сами все это уже давно знаете", – тоже может смягчить неприятное впечатление от тех суждений церковных, какие вам пришлось изложить, скажем, по вопросу о программе сексуального воспитания детей.
Клишированные фразы могут использоваться для выражения благодарности за полученное письмо. Это по-разному может выражаться, но, строго говоря, плохо, если такой благодарности совсем нет.
Вопрос студентки: "Скажите, пожалуйста, а разве нельзя писать и с самого начала в жанре эссе, от души, как напишется, без каких-то стандартных фраз?"
Все равно какие-то клише мы употребляем. Нам важно знать, какие они бывают. Конечно, письмо должно писаться от души, об этом уже сказано. Но мы должны знать о некоторых элементарных технических приемах, мы должны научиться владеть этими клише настолько свободно, чтобы это все было "как бы играя, а не выисканно". Помните эти слова святителя Григория Богослова, о которых мы говорили на предыдущей лекции? Между прочим, ранее был затронут очень интересный вопрос о соотношения формального и не формального, внешней украшенности письма и внутреннего сердечного расположения к адресату. Это как раз касается необходимости одновременного выполнения четвертого и пятого принципов, их соединения, сочетания. Кстати, к какой строчке нашей таблицы их можно отнести? Подумайте об этом на досуге. Вообще в качестве домашнего задания можно вам предложить достроить нашу табличку на основании материала настоящей лекции. Попытайтесь сами продумать, как мог бы выглядеть шестой ее столбец.
Но вернемся к нашим клише. О них надо еще немного сказать.
К клишированным фразам относятся извинения за задержку в ответе. Я вообще почти все письма с этого начинаю. Хорошо, если такие извинения сопровождаются еще уверениями, что дружба не охладела. Я, например, иногда так пишу: "Вы не огорчайтесь, что мы так долго Вам не писали, во всяком случае, письмо прочитано, мы о Вас помолились; Вы, наверное, почувствовали благодатную силу этой молитвы...". Понимание этих слов, конечно, зависит от уровня светскости человека. Человек церковный понимает эти слова буквально, и очень часто эта молитвенная связь действительно заменяет письма. У меня есть одна женщина, с которой связь просто поразительная. Мы с нею пишем письма друг другу в один и тот же день. А с другой женщиной так бывает: я не сразу читаю письмо, а потом, когда прочитаю (это всегда бывает как-то связано с церковными праздниками) и напишу ей, когда именно это было, то она мне пишет в ответ, что сразу почувствовала, что письмо прочитано, т.к. ей резко стало легче: "Груз грехов, который был на бумаге, вдруг скатился с души; я поняла, что Вы стали молиться обо мне; меня страсти перестали мучить, молиться стало легче". Т.е. эта молитвенная связь, безусловно, существует. Но одновременно есть и формальная сторона, связанная с этими клише, в которых мы уверяем, что дружба не охладела, что мы помним об адресате и молимся о нем. Конечно, не все верят в эти молитвы. Но человеку важно, что о нем помнят. Даже нецерковному человеку приятно знать, что о нем молятся.
С этим связана и такая интересная особенность византийской переписки, когда на каждое сколько-нибудь значимое речение дается прицельная реакция, доводящая иногда до абсурда основную мысль через выворачивание ее наизнанку. Например: "Чтобы земная дружба сохранилась, необходимо ее поддерживать такими материальными знаками, каковыми являются письма, – пишет один человек. А его адресат ему долго не отвечает и, чтобы хоть как-то оправдать потом свое долгое молчание, пишет, наконец, так: Раз мы с тобой постоянно духовно устремлены друг к другу, то письма – мелочь, и большого значения они не имеют. На самом деле, просьба о письме – это тоже клише. Желание получить письмо вообще может быть главным мотивом, которому все содержание подчинено. Вот у Иоанна Златоустого в 90% писем, посланных им из ссылки, содержится просьба почаще радовать друг друга письмами.
Можно привести некоторые стандартные завершения писем. Их много бывает. Вот вам для примера: Да будет со мною милость Божия по твоим святейшим молитвам, или: Да сохранит тебя Господь честна, здрава и благоденствующа.
В латинских памятниках есть даже особая формула пожелания здоровья: formula valetudinis. Она звучит так: Si vales, bene est, ego valeo. По-русски это значит: "Если ты здоров – хорошо, я здоров". На письме можно было поставить только первые буквы этого выражения: "S. V. B. E. E. V.", причем последние буквы "E. V.", которые обозначали "я здоров" – ego valeo – могли и опускаться. Помните, как у Пушкина о Евгении Онегине сказано:
Латынь из моды вышла ныне,
Но если правду вам сказать,
Он знал довольно по-латыни,
Чтоб эпиграфы разбирать;
Потолковать о Ювенале 57,
В конце письма поставить vale,
Да знал он, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.
Вот это "vale" и есть такое же клишированное пожелание здоровья. Можно поставить vale, можно – S. V. B. E., можно полную формулу valetudinis, как захотите. Вот вы учитесь вместе, знаете теперь этот латинский секрет, будете когда-нибудь друг другу письма писать, и чтобы долго не распространяться, возьмете и в конце тоже, как Онегин, поставите vale.
Почему можно было сформулировать названные принципы? Потому что, когда переписка между людьми активизировалась – в связи с гонениями христиан в IV в., или в связи с иконоборчеством и обсуждением обрядовой стороны богослужения в VIII–IX вв., или в результате развития придворного церемониала с X в., а затем и в связи с обострением политических проблем с XIV в., – всегда наступал этап, когда письма выходили за рамки частной переписки, становились важными для многих людей и поэтому публиковались. Это служило своего рода образцом. И в частной переписке люди не только стремились подражать этим образцам, но и предполагали, что и их письма могут когда-то со временем стать достоянием гласности. Т.е. письма писались в расчете на последующую публикацию, выстраивались как литературные произведения, откуда и вырос, собственно, литературный эпистолярный жанр. Взаимоотношения между адресатами в этой ситуации переставали быть главными для читателей, зато они получали возможность наслаждаться учительным содержанием и литературной формой писем, особенно писем писателей, проповедников, общественных деятелей и других известных личностей.
Как собирались письма? Либо адресаты, ценя полученные ими письма за глубину и красноречие, собирали их постепенно в тома (так сохранились и дошли до нас письма святителей), либо сами отправители оставляли себе копии своих писем. Оставлять копии – это, конечно, лишний труд и потеря времени, но иногда стоит потрудиться. Я отвечаю на письма, приходящие о. Артемию, уже более четырех лет, и вот с какого-то момента батюшка велел обязательно оставлять и сохранять копии. Что-то писалось под копирку, что-то печаталось на машинке или набиралось на компьютере, а иногда кому-то из студентов предлагалось переписать, т.к. и само такое переписывание в определенных случаях оказывалось назидательным и душеполезным, особенно когда в письме обсуждалась проблема, существенно важная для переписчика. Зачем это нужно, вы сами сейчас убедитесь, т.к. я вам дальше что-то прочитаю из вторых экземпляров, которые у нас остались.
А теперь от теории перейдем к практике.
Теперь я расскажу вам историю взаимоотношений с одним нашим адресатом, который писал письма на "Радонеж". Всего с одним, т. к. история эта длинная. И батюшка отвечал ему по радио, и я письменно. Сначала пришло три письма, в которых были вопросы о несении креста, о 70 апостолах, о поминовении усопших. Понятно, что пишущий – человек очень пытливого ума, он все время старается сопоставлять, сравнивать между собой взгляды святых отцов, находит у них "противоречия" и искушается этим, старается испытать и проповедника. Это не тот случай, когда человек делится своими немощами и просит помощи, а скорее тот случай, когда человек ищет некоего состязания. Такие письма часто приходят на "Радонеж", и мы им тоже стараемся оказать внимание. Батюшка один раз ответил, другой, а письма все идут. Тогда он и отдал мне эти три письма, чтобы мне с ним вступить уже в такую личную беседу (гомилию во втором смысле), чтобы и внимания чуть больше уделить, чем это возможно во время короткой передачи, и чтобы и вразумить тоже, хотя бы отчасти.
В конце одного из писем Роман (так зовут этого нашего адресата) благодарил за присланные ему поучения св. Иоанна Златоустого, в частности за "Доказательство существования геенны", и добавлял, что, по его мнению, верующий христианин должен соблюдать заповеди и не грешить не только из-за страха перед адом или геенной, а из-за чего – вы мне напишите сами. Затем он вообще выражал сомнение в существовании ада из-за слов молитвы: и поправшаго силу диаволю. А вы, конечно, помните, что это слова из молитвы Честному Кресту Господню, входящей, в частности, и в наше вечернее правило.
Каждый из его вопросов в этих письмах я разобрала подробно, и получилось письмо на восьми страницах. А в конце я написала так: "Когда говорится, что Господь попрал силу диаволю, это вовсе не означает полное уничтожение ада. Победа над дьяволом совершена, но не все спешат воспользоваться плодами этой победы. Тех, кто не молится, не кается, не причащается, Господь не спасает, т.к. Он никогда не насилует нашу волю. И если человек вместо жизни выбирает смерть, вместо добродетели – грех, то его душа естественным образом не только после смерти физической, но уже и здесь, на земле, испытывает адские мучения. Подумайте, как мучаются от ревности прелюбодеи, как сожалеют об упущенных возможностях завистливые люди и стяжатели; как страдают матери, загубившие в своем чреве дитя; как жжет огонь самолюбия тех, кого уличают в желании выказать свой ум при нежелании молиться и самостоятельно трудиться над поиском ответов на свои, не лишенные лукавства вопросы, – и Вы перестанете сомневаться в существовании ада. Если же человек кается в своих грехах перед крестом и Евангелием в присутствии иерея Божия, то тут уже не до самолюбия и самолюбования, тут отходят и зависть, и ревность, и честолюбие. Сердце очищается, и в Таинстве Причащения Сам Господь входит в него и действительно попирает всю эту силу диаволю, давая душе покой, мир, радость, любовь к своим ближним и способность нести свой крест. Да поможет Вам Господь избежать огня гееннского и с честью нести на себе иго Христово, ибо, как сказал Сам Господь, иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11, 30).
Вы понимаете, что это письмо очень сильно взволновало вопрошавшего, и пришел ответ, который я прочитаю вам целиком: Здравствуйте, уважаемая Людмила Игоревна! Огромное Вам спасибо за Ваше внимание к моим письмам и вопросам. Вот Вы пишете: Подумайте, как мучаются от ревности прелюбодеи.... Мой вопрос к Вам и о. Артемию: порок ли ревность? Я по собственному опыту знаю, что прелюбодей не испытывает ревности к той, с кем прелюбодействует, так как он не любит. Спасибо Вам за закладочку. Поздравляю Вас всех с наступающим праздником Рождества Пресвятой Богородицы... С уважением, Роман.
Письмо короткое, но отвечать на него нужно длинно. Ясно, что в предыдущем моем письме его больше всего задела фраза, которая кончается словами о самолюбии тех, "кто не желает трудиться над поиском ответов на свои, не лишенные лукавства вопросы", но он решает сделать ответный удар, подвергнув сомнению не конец, а начало этой фразы. И обнаруживает тем самым грех, от которого сердце действительно становится бесчувственным и не способным к любви и покаянию. Это уже вопрос действительно серьезный и, видимо, мучительный для него, хотя он и пытается задать его с некоторой долей безразличия. От него уже не только нельзя отмахнуться, но и нужна осторожность, бережность, нужна некоторая изобретательность в подборе примеров, какие могли бы быть для него убедительными, от чего письмо получается намного длиннее, чем этого было бы естественно ожидать при таком коротком вопросе. Приведу его тоже целиком.
Здравствуйте, Роман! Простите, что я долго не отвечала на Ваше письмо. Мне не хотелось комкать ответ, а времени не было из-за множества дел по работе и батюшкиных поручений. Вокруг него так много страждущих, огорченных душ, ожидающих срочной помощи, понимания, утешения и сочувствия, что поневоле все время получается, что кому-то приходится ждать дольше остальных. Не хватает времени и сил, и некоторые дела иногда удается сдвинуть с места только благодаря Божьей помощи по молитвам наших прихожан и радиослушателей. Но мы никогда не забываем о тех, кто ждет наших писем. И о Вас тоже я помнила все это время, поминала в записочках, на литургию подаваемых (особенно в день преподобного Романа Сладкопевца), и в домашних молитвах тоже.
Начало письма во многом стандартное. Это тоже своего рода клише, хотя детали могут варьироваться от письма к письму. Главное здесь – помочь адресату хотя бы отчасти представить ту атмосферу, какая царит у нас в храме, потому что многим радиослушателям даже и в голову не приходит, как множество страждущих могут буквально разрывать на части священника, и как много в связи с этим поручений приходится выполнять и его добровольным помощникам. Начало довольно длинное, но оно соразмерно остальной части письма. Такое начало подготавливает к дальнейшей неспешной беседе, выстраивающейся вокруг вопроса адресата. Перейдем к нему.
Когда я написала о мучающихся от ревности прелюбодеях, я, конечно же, имела в виду таких прелюбодеев, которые любят. Я думаю, что Вы не станете отрицать, что такое тоже бывает. Достаточно вспомнить хотя бы Митю Карамазова, сходившего с ума по Грушеньке, или Хосе, переменившего всю свою жизнь ради Кармен. Грех ли в этом случае ревность? Да, конечно, грех, ибо она настолько застилает глаза человеку, что он оказывается способным на убийство. Впрочем, Господь милостив к таким людям. Потому что те муки ада, те грехи, в которые они ввергают себя, палимые ревностью своей, рано или поздно приводят их к покаянию. Хосе сам после убийства Кармен предал себя властям и обратился к священнику с просьбой о молитве. Ревность заставила убить, но любовь привела к покаянию, смягчению души, приближению ее к Богу. И Давид, совершив прелюбодеяние с Вирсавией, а затем хитроумно устроив убиение ее мужа, тоже покаялся перед пророком Нафаном и написал потом покаянный (пятидесятый) псалом такой силы, что он и теперь выражает чувства многих кающихся грешников.
Вы правы, бывают и другие ситуации, когда прелюбодеяние совершается без любви, т.е. человеком движет одна грубая похоть. Это гораздо страшнее. Там, где нет любви, там нет и Бога, ибо Бог есть Любовь. Здесь уже нет речи не только о духе как высшей силе души, но и о самой душе. Здесь действует одна плоть, а душа убивается. Покаяться в таком случае гораздо труднее, Ангел Хранитель отходит от такого человека в печали, а силы зла приближаются и заполняют такую опустошенную, холодную, окаменевшую душу, заставляют ум ухищряться в различных поверхностных исследованиях, уводящих человека от познания себя и Бога. И зло в этом случае умножается, передается другим людям, растет в геометрической прогрессии. Такой пример тоже описан в Библии. Амнон, сын Давида, полюбил свою сводную сестру (т.е. сестру от другой матери) – Фамарь, родную сестру Авессалома, сына Давидова. Но любовь эта на самом деле была лишь похотью. Ему хотелось только овладеть красивой девушкой, а о последствиях он не думал. Не думал он ни о своей, ни о ее душе, не молился, не задавался вопросом, как поступить, чтобы действия его были угодны Богу. Но, избрав себе в советчики развращенного друга, хитростью заманил девушку к себе, притворившись больным, и стал заставлять ее лечь с ним. Девушка просила его сделать все по-хорошему: обратиться к отцу – Давиду – и взять ее себе в жены законным образом. Противилась душа ее этому беззаконию. Не делай этого безумия, – говорила она. Но голос плоти в нем был настолько силен, что он преодолел голос разума. В его душе разум молчал. А ее душу он не любил, чтобы послушать ее разумного совета. И надругался над нею, и изнасиловал ее. Далее осознание совершенного греха естественным образом приводит к отвращению к той, с кем этот грех совершен. Не себя, не свою необузданность, не свою неразумность и похотливость винит он, а несчастную девушку, оказавшуюся жертвой насилия: возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней (2 Цар. 13, 15). Говорят, от любви до ненависти – один шаг. Это верно, если этим шагом становится попрание нравственного закона. А попрание такое может свершаться там, где извращено само понятие о любви, где человек любит не другого человека, а только себя самого; и более того, не себя всего, т.е. и душу, и тело как храм Божий, но только свое тело, и потакает только его страстям, поступая хуже животного и давая вселиться в себя ненависти человеконенавистника, т.е. дьявола. Ибо любящий неправду ненавидит свою душу (Пс. 10, 5), отдает ее, предает во власть сатаны.
Далее Амнон стал прогонять Фамарь, и она опять пыталась воззвать к его совести, заботясь при этом не только о себе, своем бесчестии, но и о нем как о брате, позорящем не только себя, но и весь дом отца своего Давида: Нет, брат; прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною (2 Цар. 13, 16). У еврейского народа были очень строгие законы в отношении таких грехов, вопиющих на небо. См., например, Второзак. 22, 13-30. Но Амнон опять не послушал голоса разума и выгнал ее опозоренною. И Божий суд не замедлил свершиться: через некоторое время брат Фамари – Авессалом – убил Амнона. Но зло это запятнало его душу, и далее последовала цепь беззаконий, худших первого. Авессалом восстал на отца своего Давида и, желая захватить власть, пошел войной на него. Давид же вместе с войском и людьми ушел из города, надеясь, что сын опомнится. Но тот не опомнился. И, действуя в направлении утверждения своей власти, совершил новое безумие, новое преступление: поставил на виду у всех людей на кровле дворца своего палатку, и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля (2 Цар. 16, 22). Зло, совершенное одним человеком почти тайно, губит его, но одновременно распространяется, как проказа, как раковая опухоль, захватывающая души все большего количества людей уже явным образом: перед глазами всего Израиля. Попрание нравственного закона начинает восприниматься, таким образом, как нечто обыденное, не страшное. И только кротость царя Давида в этой ситуации и многочисленные его слезные молитвы о народе своем удерживают гнев Господень, отдаляя его до времени, когда несколько царей подряд отступят от Бога и совсем потеряют нравственные ориентиры. Такая же потеря нравственных ориентиров происходит сейчас и в нашем обществе. Беззакония перестают считаться таковыми, и цепь их разворачивается и расширяется от частных любодеяний и прелюбодеяний до массовых убийств, когда народ поднимается на народ. И если мы еще живы, то только потому, что есть еще на земле люди, кающиеся и искренне молящиеся за весь наш род, прелюбодейный и грешный. Ради них медлит Господь по неизреченной милости Своей, ожидая искреннего и истинного обращения к Нему, ожидая очищения и исправления путей человеческих от похоти, себялюбия и окамененного нечувствия, дабы исповедующим свои грехи душам могла открыться подлинная, жертвенная любовь, без которой жить невозможно и которая одна только и может избавить души от греха и смерти.
И дальше коротенькое, тоже в достаточной мере стандартизированное завершение. Коротенькое для того, чтобы впечатление от основной части не смазалось.
"Не знаю, Роман, достаточно ли ясно я ответила на Ваш вопрос, успокоит ли это Вашу душу, поможет ли обрести хотя бы временное доверие к Богу и служителям его. Молюсь за Вас и прошу Ваших молитв о батюшке и обо мне, грешной.
После этого от Романа пришло довольно фамильярное письмо. Обращение на "ты" и по имени. "Побеседовав" со мной на такую тему, он решил, что можно обращаться попросту. Батюшка это письмо мне не отдал. Прошло еще немного времени, и пришло письмо уже в более уважительном тоне, хотя тоже достаточно вольное. Вот оно:
Здравствуйте, Людмила. Почему перестали писать? Мой вопрос к радиостанции: что такое закваска фарисейская – лицемерие (Лк. 12, 1) или учение фарисейское (Мф. 16, 12) по учению св. отцов? Считаю, что это разные вещи, и верить следует Христу, т.е. Евангелию от Луки (Лк. 12, 1). А что касается Мф. 16, 12, то думаю, что в то время апостолы были еще младенцы во Христе и не во всем еще совершенны, и поэтому как молодые ученики могли ошибаться; и толкования на Мф. 16, 12 бывают не совсем верными. Прошу простить, если вопрос мой покажется вам лукавым. Через два письма на третье всплывает, наконец, это слово о лукавстве, задевшее его. Но изменения, как видим, нет. Он возвращается к своей излюбленной теме и снова пытается найти противоречия не только у святых отцов, но и в самом Евангелии. Это письмо батюшка мне тоже поначалу отдавать не стал. Если кто-то захочет, может попробовать теперь ответить на эти два письма.
Следующее письмо было выдержано в более строгом тоне, и о. Артемий отдал мне его сразу: Здравствуйте, отец Артемий! Святая Русская Православная Церковь учит целиком и полностью доверять Ей и святоотеческим писаниям, т.е. не трудиться над Писанием. Сейчас я попытаюсь доказать, что это неправильно. Святые Отцы – люди? Конечно, пусть даже и водимые Святым Духом. А всем людям и ученикам (с маленькой и большой буквы) свойственно ошибаться. Они иногда и ошибаются (как радиостанция Радонеж), но никогда не врут. Например, бл. Феофилакт в толковании на Евангелие от Марка (гл. 1) пишет, что Иоаннова одежда была знамением сетования (плача). С чего, извините, он это взял? Он аргументирует это притчей: Мы пели вам печальные песни. Но ведь согласитесь, что смысл притчи совсем иной! Поймите меня правильно, что я не не почитаю святых отцов, а просто думаю, что они иногда ошибались, как св. апостолы в свое время, как нам известно из Евангелия. А далее там же бл. Феофилакт пишет: Они имели Писания, как бы некоторый мед, но не трудились над ними и не исследовали их. О евреях ли только эти слова? Так давайте не будем уподобляться книжникам и фарисеям, о которых сказал Исус 58: Они любят дерево, но ненавидят его плод, и любят плод, но ненавидят дерево 59. Не возражаю, если вы поделитесь моими мыслями 60. О следующих сомнениях в следующих письмах. Привет Людмиле Крюковой. Жду ответа. Роман.
(Вопрос из аудитории: "А он вообще, нормальный? Может быть, для него эти письма – просто забава?)
Бывает порой, что нам другие люди кажутся ненормальными только потому, что они задают слишком много вопросов. Но когда человеку уделяешь внимание, занимаешься с ним, стараешься терпеливо отвечать на беспокоящие его вопросы, то вся эта "ненормальность" проходит. Это способствует и некоторому исцелению тоже. У меня много писем от шизофреников, и им я тоже пишу, и очень часто через некоторое время совершенно меняется характер этих писем. И покаяние появляется, и осторожность, и страх Божий. Нам с вами сейчас надо помочь Роману, в прямом смысле побеседовать с ним. Ведь ему, очевидно, не хватает общения. И если сейчас несколько студентов, каждый по-своему, ответит ему, то, может быть, это поможет ему и в Священном Писании лучше разобраться, и к покаянию все же приблизит. А я приведу вам мой ответ на это письмо. Он тоже получился довольно подробным. Но начало на этот раз очень короткое, всего два предложения, чтобы не повторяться. Но эти два предложения, очевидно, тоже один из видов клише.
Здравствуйте, Роман! Простите меня за то, что я так долго не отвечала на Ваше письмо. Слишком напряженным было все это время и у батюшки, и у меня. Вы совершенно правы, когда говорите, что слова блаженного Феофилакта Болгарского о евреях: Они имели писания, как бы некоторый мед, но не трудились над ними и не исследовали их, – относятся и к нам. Ибо исследование и труд над словами Священного Писания предполагают не только прочтение их и истолкование в соответствии с привычными читателю стереотипами тех или иных слов, и даже не только обращение к толкователям, но, самое главное, пожалуй, – это отношение к каждому слову Нового Завета как к некому драгоценному камню, который можно бесконечно поворачивать под лучами солнечного света – Бога Слова, и каждый раз обнаруживать новые смысловые оттенки, открывающиеся только чистому оку и внимательному сердцу. Очищение очей и сердца достигается только исповеданием собственных грехов и глубоким покаянием. Поэтому-то батюшка Артемий предпочитает в первую очередь отвечать на письма, в которых люди пишут о своих грехах (видите, я уже прямым текстом об этом пишу), задают вопросы о духовной жизни, без каких-либо задних мыслей делятся своими бедами и просят совета. А тем, кто стремится выказать свой ум, свою начитанность и осведомленность, тем, кто не духовной пользы ищет, но испытывает умственные способности и терпение отвечающего, тем батюшка тоже старается отвечать в надежде на будущее изменение человека, но к ответу обычно присовокупляет и шутку, называя такого исследователя, например, котом ученым.
И действительно, тому, кто сокрушается о своих грехах, кто соблюдает посты и часто исповедуется, тому понятны слова об одежде из грубого жесткого верблюжьего волоса. Такая грубая одежда, не имеющая ничего общего с красивой и удобной одеждой городского, да и сельского жителя, всегда служила знаком сетования, плача о своих грехах и называлась вретищем. Например, Давид, терпя поношение от врагов, говорил: облачахся во вретище, и смирях постом душу, и молитва моя в недро мое возвратится (Пс. 34, 13), или: и покрых постом душу мою... и положих одеяние мое вретище (Пс. 68, 11-12). Когда израильтяне вернулись из плена Вавилонского и восстановили храм и стены городские, то все собрались во вретищах на площади и на дворах Дома Божия и исповедовались в грехах своих, и читали из Книги закона, и поклонялись Господу Богу своему (Неем. 9, 1-3). И ниневитяне, услышав пророчество Ионы о разрушении их города, поверили пророку и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого (Иона 3, 5). Т.е. грубая одежда, пост, покаянный плач о грехах, молитва – все это в сознании израильского народа было глубоко связано.
Прокомментирую кратко. Здесь, видите, собраны разные высказывания из Священного Писания, из которых становится понятно, что такое "вретище" и как это связано с грубой одеждой, в частности, одеждой из верблюжьего волоса. И поэтому грубая одежда из верблюжьего волоса, иначе сказать, власяница, которая, очевидно, была еще менее комфортна для тела, чем обычная мешковина, которую главным образом и использовали в качестве вретища, действительно была для иудеев знаком плача и сетования о своих грехах и о грехах народа. Но причин и смысла этого плача, поста, молитвы и пустынножительства многие современные ему, так же как и современные нам, люди не хотели и не хотят понять, считая, что повода для такого плача и воздержания не было и нет. Поэтому и слова о том, что этих людей не трогают плачевные песни, и о том, что пост Иоанна Крестителя им кажется беснованием, здесь, безусловно, уместны. И никакой не другой, а именно этот самый смысл заключен в приводимой здесь блаженным Феофилактом цитате из Мф. 11, 16 и из Лк. 7, 32-33.
Обратите внимание: я цитату не привожу, но как бы предлагаю самому посмотреть и убедиться в этих словах. Помните слова св. Григория Богослова: Одинаково не занимательны и разгаданная загадка, и слова, требующие толкования. А здесь, с одной стороны, все вроде бы и ясно, а с другой, требует дополнительного труда – посмотреть цитату. Но от мучительного поиска цитаты читатель избавлен. Все ссылки указаны.
Ибо народ израильский был настолько развращен, горд, самолюбив, что ни пост и покаянный плач Иоанна, ни милосердие и любовь Самого Иисуса Христа не трогали их и не приводили к покаянию. Причина же их черствости была в том, что не по их указке, не в соответствии с их похотением действовали и Тот, и другой. Оттого и были фарисейские отговорки подобны уверткам капризных детей, чего, кстати, не отрицает и толкователь: см. объяснение слов из Мф. 11, 16 (в двухтомнике издательства Скит, т. 1, с. 109). Но эти смысловые оттенки нисколько не противоречат тому, что слова о плаче соотносятся с Иоанном Предтечей, а слова о веселых плясовых мелодиях – радостью, возвещенной Господом.
Таковы и многие современные люди. Истина сама по себе их не интересует. Получив полный и исчерпывающий ответ на свой вопрос, они тут же теряют к нему интерес, не считают нужным поблагодарить за этот ответ, но спешат задать новый вопрос, руководствуясь странным желанием услышать свое имя по радио. Тщеславие застилает глаза и уши, запирает сердце, и оно становится неспособным приносить плоды покаяния. И это понятно: нет и не может быть добрых плодов там, где в основе вопроса лежит не жажда истины, а греховная страсть. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый (Лк. 6, 43). Или признайте дерево хорошим и плод хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым; ибо дерево познается по плоду (Мф. 12, 33). Видимо, эти слова Вы имели в виду, когда приводили в письме высказывание: Они любят дерево, но ненавидят плод и любят плод, но ненавидят дерево? Потому что я, честно говоря, в точности таких слов в Священном Писании не нашла. Будем благодарны, если Вы сообщите точную ссылку на Библию или хотя бы на то издание, из которого Вы эти слова выписали. Ибо всякое дерево познается по плоду своему; потому что не собирают смокв с терновника, и не снимают винограда с кустарника (Лк. 6, 44). А всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь (Мф. 7, 19), – говорит в одном месте Господь наш Иисус Христос, а в другом – Его Креститель и Предтеча (см. Мф. 3, 10).
Что до ошибок, которые при желании можно найти у святых отцов, то здесь можно вспомнить слова св. Максима Исповедника, который в предисловии к своим Четырем сотням глав о любви говорит, что их чтение может оказаться душеполезным по благодати Божией, если кто будет читать не с пытливым духом, а со страхом Божиим и любовью. Кто же сию или другую какую книгу станет читать не для духовной пользы, а для уловления речений на укор писавшему, дабы тщеславно показать себя более знающим, нежели он, тому нигде, никогда ничто полезное не откроется (Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992, т. 3, с. 163). И еще, если Вы еще не устали от цитат, хочу Вам привести слова из книги Притчей Соломоновых, где Премудрость (в которой обычно Святые Отцы видят образ Самого Иисуса Христа) возглашает на улице и на площадях.
Дальше как бы вывернута наизнанку цитата, на которую он ссылается: Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали (Мф. 11, 17), т.е. здесь при сходных словах смысл уже совсем иной. Итак, Премудрость возглашает на улице, на площадях... Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было внимающего; и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я... порадуюсь, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои; за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их (Притч. 1, 20-31). Сохрани нас, Господи, от таких плодов!
Как тут не вспомнить слова одной из стихир, посвященных засохшей смоковнице и поющихся в Церкви в Великий Вторник: Изсохшия смоковницы за неплодие, прещения убоявшися, братие, плоды достойны покаяния принесем Христу, подающему нам велию милость. Молитвами преподобного Максима Исповедника да подаст Господь и Вашей душе мир и велию милость! Дальше подпись моя, затем приписка о. Артемия, чтобы немного смягчить впечатление от таких суровых "проречений" в цитатах: Мир Вам, Романе любознательный человече. А дальше я указываю число, которое неожиданно для меня самой тоже оказалось связанным со смыслом письма: 26.08.95 г. Память икон Страстная и Умягчение злых сердец, а также день свт. Тихона Задонского и преподобного Максима Исповедника.
Дальше Роман прислал письмо в ответ. Батюшка сказал мне о нем, но не отдал сразу. И я, беспокоясь о том, не сделала ли я все же Роману больно, послала ему открыточку – поздравление с Рождеством Христовым, где приписала: Я знаю, что Вы прислали ответ на мое письмо. Его передали о. Артемию, но оно никак не перекочует ко мне из бесконечных батюшкиных сумок. Простите, если я чем огорчила Вас. Не унывайте и потерпите. Рано или поздно Вы получите ответ на Ваше письмо. Мир Рождественской ночи да опочиет на Вашей главе, и благодать младенчества Христова да умирит Ваше сердце. Прошу Ваших молитв.
Потом было еще одно письмо, и на оба этих письма батюшка, кажется, кратко ответил в эфире. А потом уже летом отдал мне и те два письма, о которых уже шла речь, и два последних письма. Вот на эти четыре письма вам и предлагается теперь ответить в качестве домашнего задания.
Четверо студентов взялись отвечать на предложенные письма. Два ответа были обсуждены на следующем занятии, отредактированы и затем отправлены. В ответ пришло письмо от матери Романа о том, что его больше нет в живых. 31 октября состоялась лекция, когда студентам были розданы письма, а 4 ноября Роман был убит тремя подростками неподалеку от дома, когда утром шел на работу. Работал он грузчиком в мебельном магазине, был очень сильным, но никогда никому не давал сдачи. Если кто его обижал, он говорил, что того Бог накажет. Убийц, действительно, нашли. Идет следствие.
По словам матери, все свободное время Роман читал Библию и другие святые книги. Был он очень замкнутым, одиноким, неуютно ему было на этом свете. Постоянно слушал радиостанцию Радонеж и очень радовался, когда получал от вас письма. Страшно подумать, неужели он был грешнее нас, что Бог послал ему такую тяжелую внезапную смерть? Наверное, нет. Но если не покаемся, то, по слову Христа (Лк. 13, 2-5), все можем так же погибнуть.
Во время рождественских каникул одна из студенток, отвечавших на письмо Романа, ездила с группой детей из воскресной школы во Владимир и, зная адрес, пошла навестить мать Романа. Мама показала студентке комнату Романа, его книги, одну из них передала на радиостанцию "Радонеж" в подарок. Это старопечатное издание Святцев, некогда составлявших часть Псалтыри, первое издание которой вышло в 1652 г. (т.е. еще до реформы патриарха Никона), а затем без изменений было перепечатано в старообрядческой типографии в 1784 г.
Второго февраля 1997 г. на радиостанции "Радонеж" была передача о старопечатных книгах, в которой о. Артемий рассказал и об этом уникальном издании. На последней странице книги рукой Романа написано: Календарь Романа Ш., родившегося во Владимире в 1967 г. от Рождества Христова, 2 февраля. Значит, именно в этот день – накануне дня памяти св. преподобного Максима Исповедника – ему должно было исполниться тридцать лет. Завершается подпись словами: Помолитесь за меня Господу моему Иисусу Христу. Батюшка прочитал эти слова и предложил всем радиослушателям помолиться за упокой души новопреставленного убиенного Романа. На очередном занятии студенты спели ему "Вечную память". С тех пор студенты двух групп – педагогической и катехизаторской – с особой болью в сердце как о родном молятся о нем. Просим и всех, кто будет читать эти лекции, помянуть в своих молитвах раба Божия Романа, дабы он, приняв такую тяжкую кончину, не оставлен был Господом нашим Иисусом Христом вне Царствия Небесного.
Великий молитвенник Земли Русской был рожден на свет Божий по молитве своих родителей. Кажется, что дар молитвы отрок Варфоломей получил, еще находясь во чреве матери, ибо как иначе объяснить происшедшее с нею на Божественной литургии, когда все явственно слышали, словно младенческий крик на Херувимской песне и в завершении Божественной Литургии. Несколько раз это чудо было. Не удивительно, что и все его отроческие годы были освещены "немерцающим светом" незримой миру лампады, которую Сам Господь заладил в кроткой, незлобивой душе.
Братья и сестры! Вы знаете, что Своих избранников Господь проводит через горнила испытаний. Не миновал их и печальник об Отечестве нашем. Встретив непреодолимые трудности в изучении грамоты, Божий отрок прибегнул к испытанному средству – всем сердцем, всей душою, всем помышлением, с плачем он воззвал к Небесному Отцу и был услышан.
Однажды отрок Варфоломей был послан отцом своим искать жеребят. Привыкший беспрекословно повиноваться воле родителей, он тотчас же отправился в поле и был вознагражден свыше за свое послушание. С ним случилось то же, что некогда с Саулом, который, будучи также послан отцом своим на поиски заблудившихся овец, увидел пророка Самуила, возвестившего ему грядущее царство над Израилем. По дороге отрок Варфоломей встретил старца-черноризца, или скорее посланного Богом Ангела в иноческом образе, который, проливая слезы, стоял и молился под сенью дуба. Варфоломей приблизился к нему и, поклонившись, стал ожидать с благоговением, пока старец окончит свою молитву.
В этом эпизоде мы видим глубокое смирение и благоговение, с которым возлюбленный Богом отрок подходит с поклоном к старцу. Мы видим, что он не мешает молитвам старца, а уважительно ждет, когда благочестивый человек сам к нему обратится. Старец окончил молитву и с любовью взглянул на доброе дитя, прозревая духовными очами сосуд Святого Духа, благословил и спросил, чего ему надо.
Здесь следует вспомнить, дорогие братья и сестры, что наши благочестивые предки относились к грамоте как к делу священному, помогавшему уразуметь Священное Писание. Хотя отрок Варфоломей был послан на поиски коней, мысли и душа его стремились к познанию и обладанию грамотою – великого дара Божия. Ребенок забыл о конях, с детской простотой поведал старцу свое горе: "Больше всего желала бы душа моя научиться читать слово Божие. Помолись за меня Богу, отче святый, попроси, чтобы Он открыл мне учение книжное, и верую, что Господь примет твою молитву!" Умилился инок, любуясь красотою детской души, воздел руки, возвел очи на небо, вознес молитву Господу, дал отроку часть просфоры и сказал: "Сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумения Святого Писания".
Мы можем себе только представить, какою сладостною показалась Варфоломею эта таинственная пища, и он воскликнул: Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим (Пс., 118, 103), и душа моя возлюбила их зело! Это был важнейший момент в жизни отрока. Благодать Святого Духа сошла на чадо сие через посланника Божия – Ангела, и Дух Божий заговорил в устах его. Этим примером должны мы все руководствоваться во всей своей жизни, ибо сказано: Блаженны плачущие, яко тии утешатся. Особенно нам должно обратить внимание школьников и студентов, сказав словами Евангелия: Ищите и обрящете, стучите и отворят вам (Мф.7, 7-8). Чего не преодолеют прилежание и труды, наипаче светлая молитва, исходящая непрестанно из глубины сердца?! Только нужно иметь влечение к просвещению и твердо знать, дорогие братья и сестры, что никакого знания, никаких способностей не должно приписывать себе, но единственно Богу, Отцу Светов, и смиряться под крепкую руку (1 Петр. 5, 6) Того, Кто Один просвещает всякого человека, грядущего в мир, – заканчиваю словами евангелиста Иоанна (Ин. 1, 3).
Надо отметить, что автор единственный из всех обратил внимание на молитву и написал о ней своими словами. Когда он сказал о том, что юный Варфоломей не стал беспокоить старца во время молитвы, но проявил благоговение, в аудитории стояла тишина. Во все остальное время, узнавая знакомые слова из жития, слушатели или шевелились, или как-то усмехались, или переговаривались. Кстати, когда работаешь с детьми, подобные эпизоды бывают очень важны.
Именно ради такой маленькой особенности, такой находки мы выбрали это сочинение. Но в остальном слово получилось компилятивное и даже немного фальшивое. Автор сам это почувствовал, поэтому ему трудно было говорить, ибо слово было не свое, не из сердца льющееся.
Хочу обратить ваше внимание на то, как можно углубить наше размышление. Задумаемся над таким моментом. Старец дал отроку Варфоломею кусочек просфоры. Это, скорее всего, была богослужебная просфора, именно та, из которой агнец вырезается, антидор. Она ему явно не просто так дается, здесь есть некая связь с Божественной литургией, ревностным служителем которой станет в свое время преподобный.
В искусстве проповеди часто используется прием сравнения, о котором сейчас как раз уместно сказать. Давайте вспомним, были ли в истории еще такие случаи, когда кому-то что-то давалось, после чего он получал особое дарование от Бога?
Студент. Роман Сладкопевец.
Преподаватель. Совершенно верно. Напомните нам, пожалуйста, что произошло с ним.
Студент. Патриарх поставил преподобного Романа в Константинополе в Софийском соборе пономарем и давал ему, как говорит житие, равную часть с клириками. А те ему стали завидовать из-за благорасположения патриарха и решили, так сказать, подставить. Во время одной из предрождественских служб, на которой присутствовал сам император, они вытолкнули его на амвон посреди церкви и сказали: "Раз ты получаешь одинаково с нами, то пой". Храм был переполнен богомольцами, служил сам патриарх в присутствии императора и придворной свиты. Смущенный и напуганный, святой Роман еле-еле что-то произнес дрожащим голосом и невнятно запел. И это было, как бы мы сейчас сказали, провалом. Не выдержав позорища, Роман убежал из храма. Он долго плакал и молился перед иконой Божией Матери, изливая свою скорбь. Богородица явилась ему, подала бумажный свиток, на котором по-гречески был написан кондак, и велела съесть его. И совершилось чудо: Роман получил красивый, мелодичный голос и одновременно поэтический дар. Придя в храм, Роман Сладкопевец взошел на амвон и спел свой знаменитый кондак "Дева днесь Пресущественнаго рождает...".
Преподаватель. Интересно, что кондаки в то время были подобны поэме, в них содержалось довольно много частей. До наших дней сохранилась только первая часть кондака Романа Сладкопевца, которая и входит в Рождественскую службу.
Студент. Еще с пророком Иезекиилем был подобный случай. Ему было видение подобия славы Господней, отчего он пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего, и Он сказал [ему]: сын человеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с тобою (Иез. 2, 1–2). И нашел на пророка Дух, который поставил его на ноги. "И вот, – далее повествует пророк, – рука простерта ко мне, и в ней книжный свиток... и написано на нем: плач, и стон, и горе (Иез. 2, 9–10). Иезекиилю было сказано: напитай чрево твое и наполни внутренности твои этим свитком, который Я даю тебе. И он съел, и было в устах его сладко, как мед. (Иезек. 3, 3).
Преподаватель. Можно еще посмотреть для сравнения, как происходило призвание на пророческое служение Исайи, которое описано в шестой главе его книги. В связи с этим вспоминается яркий образ пушкинского пророка:
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык.
На самом деле то, что входит в уста, проникает и в сердце. Мы не случайно прикладываемся устами и лбом к иконе – это сердце прикасается к святыне, и мысли очищаются.
Видите, сколько есть событий, когда дается что-то в уста съесть, а после этого человек становится способным к некому особому служению: к пророчеству, будущему монашеству, к чтению, к молитве.
На таком простом примере я постаралась вам показать прием сравнения, который широко используется в словесном творчестве. О ком бы мы ни говорили, хорошо развернуть ваш рассказ во времени, и тогда мы сразу видим того, о ком повествуем, уже объемно. Он уже не сам по себе, не отдельно воспринимается нами, а то, что с ним происходит, становится определенным моментом в жизни всей Церкви. Ведь для нас самое главное не просто Преподобного Сергия прославить, а через него прославить Господа.
Очень широко прием сравнения использует Епифаний Премудрый. Интересно, как он сопоставляет возглашения Преподобного Сергия с теми знамениями, которые происходили при рождении великих пророков. К примеру, Иоанн Креститель тоже во чреве матери взыграл. Хорошо будет, если вы сами найдете еще какие-нибудь символические сравнения.
Все это связано с вопросом о том, как строится слово. Таким образом, перейдем к композиции проповеди. Кстати, что такое композиция? 61 Ком-позиция. Соразмерное единство частей произведения… Какие есть варианты построения проповеди? Отец Артемий на лекции дал нам один из вариантов: дерево.
Любое публичное слово похоже на дерево, которое имеет ствол – главную мысль, веточки, с помощью которых эта мысль развивается, и листики, которые эту мысль украшают. Такой подход не случаен. Если мы чересчур заботимся об украшении – о листиках, то запросто можем забыть о стволе. Это одна крайность. С другой стороны, я знаю таких людей, которые совершенно не принимают такой подход. Это тоже надо учитывать. Например, одна прихожанка о. Дмитрия (Смирнова) говорила о выступлениях некоего лектора: "Я вижу только листья в его словах и не замечаю ствола. Я не слышу сути!" И действительно, о. Димитрий Смирнов всегда отвечает на вопросы удивительно прицельно, точно, его речь почти не украшена, есть только суть. А нам что надо? Нам надо уметь и то, и другое. В этом уже есть некий выбор человека. Некоторым людям надо, чтобы им правду сразу, напрямую сказали. Но правильнее – действовать и говорить по ситуации.
Суть надо непременно держать в прицеле и научиться выбирать, что нам важно. Иногда мы говорим об одном – например, излагаем какое-то житие, а перед нами сидит человек, которому нужно что-то втолковать, и ничего не понимает. Тогда мы очень осторожно переходим к другой теме, на другую веточку перескакиваем: скажем что-то для него близкое, потом обратно возвращаемся и продолжаем говорить свое. Это может оказаться более назидательным, чем прямое следование цели проповеди.
Итак, мы рассмотрели один вариант композиции. В качестве другого возьмем систему греко-римского ораторского искусства. В древности считалось, что речь должна делиться на определенные части. Вот самый простой, классический способ изложения.
1. Вступление, которое может быть связано с обращением к людям.
2. Изложение. Это может быть краткое изложение событий или того, зачем мы собрались.
3. Определение темы с возможным разделением на части. Я сегодня в начале семинара сказала о том, какой у нас будет план урока. Людям полезно знать, что вы хотите сказать в проповеди, особенно же, если вы ведете урок.
4. Разработка темы, главная часть. Мы раскрываем тему, события предстают уже полностью.
5. Доказательство. Это уже связано с греко-римском правом. В то время больше всего красноречие использовалось в судебной практике, поэтому было некое доказательство, скажем, невиновности. У нас это может быть, например, более подробное развитие именно темы молитвы.
6. Опровержение доводов противника. Опять, конечно, у нас это может опускаться. Но если мы что-то излагаем, для того чтобы поспорить с еретиками или с теми, кто нас не принимает, вот тут-то мы начинаем с ним спорить. Сначала мы сделали хороший заезд, а потом, когда уже нас приняли и стали слушать, начинаем с ними спорить и опровергать доводы противника.
7. Заключение. Иногда целую часть публичной речи составляло отступление. Таким отступлением может быть сопоставление.
Композиция – это построение нашего слова в целом. Состоит же проповедь из отдельных предложений, поэтому подбор слов в них и умение их сочетать тоже немаловажно. В речевых оборотах с древности выделяют так называемые фигуры, которые еще именуются "цветами красноречия". Они служат для усиления выразительности, для того, чтобы наша речь не только отвечала на вопрос, но и впечатляла, была убедительной, красивой. Это те же листики, о которых уже говорилось. Послушайте цитату из батюшкиной лекции: "Мы ведем разговор не о том, чтобы ласкать слух аудитории всякими фигурами (он скрыто полемизирует с греко-римским ораторским искусством, где были эти фигуры, вы, наверное, этого и не поняли), а о том, что современный русский человек так же тоскует по хорошей русской речи, как он тоскует по России, по Отечеству, как он тоскует по Небесному Иерусалиму, воплощением которого были наши лучшие города и села". Вот вам домашнее задание – разобрать данное предложение с точки зрения употребления различных фигур речи.
А теперь я вам приведу примеры нескольких фигур, на самом деле, их очень много.
Первое, антитеза – противопоставление понятий. Например, батюшка говорил: "Он свят, а мы грешны. Он является обителью Духа Божия, а мы еще не очистились от "духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия". Что еще в этом предложении присутствует?..
Студент. Использование однородных членов предложения.
Преподаватель. А еще что?.. "Он является обителью Духа Божия, а мы еще не очистились от "духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия" – это скрытая цитата. Знакомое выражение, не так ли? Цитата скрытая, так как проповедник не обращает нашего внимания на нее, но безмолвно апеллирует к нашей памяти. Вы цитату узнаете, и поэтому вам приятно слушать. Но бывает, что и сами антитезы становятся однородными членами. Вот, смотрите, такой пример: "Дабы слово наше было живо, а не мертво; свежо, а не затхло; интересно, а не скучно; глубоко, а не поверхностно; искренно, а не формально; в каком-то смысле спонтанно, а не затвержено и заучено, что всегда производит на слушателей дурное впечатление". Вот такое получилось красивое предложение, в котором использованы специальные приемы выразительности языка, да еще как! Есть и однородные предложения, и однородные члены предложения, и антитезы.
Запишем еще одну фигуру речи – градация 62, то есть когда постепенно уточняются понятия и как бы восходят, увеличиваются. Вы сейчас увидите: "Слово как нечто живое, исходящее из живого сердца..." – вот это и есть градация, уточнение, которое еще более углубляет то слово, которое было сказано; мы объясняем, что значит "слово живое".
Еще пример градации, или восхождения: "Хочу говорить о сокровенной жизни его сердца (Преподобного Сергия), о том, как в нем зачиналась, созревала, возрастала...", – видите, как будто по ступенькам расположены эти три слова. И опять их достаточно, чтобы предложение не вышло слишком длинным. "...И наконец… (Нам нужно до верха дойти, поэтому добавляется слово "наконец", настраивая на то, что сейчас будет самая верхняя ступенька) достигла своего совершенства молитва".
Еще одна фигура речи: "анбфора" или "анафура" (др.-греч. αναφορά – приписывание, средство к исправлению) – так по-гречески правильно ставится ударение. Это означает "единоначатие". Анафора — стилистическая и риторическая фигура, состоящая в повторении сродных звуков, слов или группы слов в начале каждого параллельного ряда, то есть в повторении начальных частей двух и более относительно самостоятельных отрезков речи. Анафора несколько отличается от восхождения (градации). Вот слушайте, что батюшка использовал как анафору: "А цель – это определенный духовный импульс...". "Цель – это" – здесь и есть анафора. Записываем предложение дальше: "...определенный духовный импульс", – батюшка развивает, – "который от нашего сердца, с Божьей помощью, должен выйти и отпечатлеться в сердцах наших слушателей". Чувствуете, что-то здесь не то? Я уже смотрю как редактор. Вы думайте, что батюшка все говорит прекрасно, и он редактирует то, что сам говорит. Уже есть "духовное назидание слушателей", обратите внимание, и "напечатлелся в сердцах наших слушателей". Получается некрасивый повтор, значит, надо заменить где-то слово "слушателей". Я предлагаю заменить так, смотрите: "который от нашего сердца, с Божией помощью, должен выйти и отпечатлеться во внимающих нам сердцах". Вот теперь аккуратное, красивое предложение.
Студент. А если в предложении слово "сердце" дважды повторяется – это нормально?
Преподаватель. Вы говорите о таком явлении, как тавтология. Но тавтология может рассматриваться как стилистическая ошибка (неоправданное, небрежное, незамеченное повторение одних и тех же или однокоренных слов). А может – как специальный литературный прием. "От нашего сердца к сердцам слушателей..." – в данном случае нет тавтологии как ошибки. Есть тавтология как специальный языковый прием. Разве вы подумаете об ошибке в таких примерах: "с глазу на глаз", "яблочко о яблоньки недалеко падает", "из уст в уста". Нет, здесь повторение является специальной фигурой речи, оно естественное и осознанное. Но как стилистической ошибки, конечно, повторения одних и тех же и однокоренных близко стоящих слов надо избегать. Как и плеоназма – повторения того же самого другими словами. А что касается повторения слов, то это, кстати, может быть вызвано и применением такой фигуры речи, как анафора – повторение одних и тех же слов и конструкций. Например: "Не напрасно дули ветры,/Не напрасно шла гроза".
И еще один пример анафоры, который был использован в самом начале лекции: "Как говорить о Преподобном Сергии, чтобы скучно не было?! Как говорить о Преподобном Сергии, чтобы не умалить от высоты святости предмета?! Как говорить о Преподобном Сергии, чтобы лицом в грязь не ударить".
Здесь анафора состоит из трех предложений. Как же получается красиво, когда у нас такая речь! Здесь чувствуется даже некая музыкальность предложений, и становится легче говорить и слушать, потому что ты те же слова повторяешь, но повторяешь каждый раз с немножко разной интонацией.
Итак, мы с вами познакомились с некоторыми видами фигур, т.е. речевых оборотов: антитезой, градацией и анафорой. Теперь вернемся к выступлению на тему о молитву Преподобного Сергия и посмотрим, какие слова употребляет батюшка перед эпизодом собеседования отрока Варфоломея с таинственным старцем?.. "Встретив непреодолимые трудности в изучении грамоты, Божий отрок прибегнул к испытанному средству – всем сердцем, всей душою, всем помышлением, с плачем воззвал он к Небесному Отцу и был услышан". Что здесь? Какая фигура?
Студенты. Градация, потому что восхождение есть.
– И анафора, потому что "всем – всей – всем".
Преподаватель. Да. Однако, скорее всего, батюшка специально не думал о том, что употребляет речевые фигуры, но он очень хорошо знает, что это такое. При учебе на филологическом факультете он все эти особенности греческой риторики впитал буквально во внутренности свои, и поэтому у него легко получается их вплетать в свою речь, одновременно пользуясь ими и сознательно.
Напоследок хочу поразмышлять о последних словах предложенного о. Артемием выступления на тему о Преподобном Сергии: "Когда Авраамий Палицын… уже готов был плакать о погибели Русской Земли, то он на заре стал молиться и услышал с небес глас Божий: "Авраамий! Как ты можешь сомневаться в Промысле Божием над Русской Землею, ибо она и православие не погибнут, покуда у Престола Божия молятся за Русь три святых: святой великомученик Димитрий Солунский, святитель Василий Великий и Преподобный Сергий Радонежский!"
Вам не приходило в голову, почему Авраамий Палицын назвал этих трех человек – Василия Великого, Дмитрия Солунского и Сергия Радонежского? Так Господь сказал, но ведь в этом есть некая реальная причина. Вот слушайте, что написал князь Дмитрий Николаевич Трубецкой: "В ризнице Троице-Сергиевой лавры есть шитое шелками изображение святого Сергия, которое нельзя видеть без глубокого волнения. Это покров на раку преподобного, подаренный лавре великим князем Василием, сыном Дмитрия Донского. Первое, что поражает в этом изображении, – захватывающая глубина и сила скорби. Эта не личная или индивидуальная скорбь, а печаль о всей земле Русской, обездоленной, униженной, истерзанной татарами. Внимательно всматриваясь в эту пелену, вы чувствуете, что есть в ней что-то более глубокое, чем скорбь, тот молитвенный подъем, который предваряется страданиями. Вы отходите от нее с чувством успокоения, сердцу становится ясно, что святая печаль дошла до него и там обрела благословение для грешной, многострадальной России..."
Видите, к этой пелене имеют прямое отношение и Дмитрий Донской, и его сын Василий, а их небесными покровителями как раз и являются великомученик Дмитрий Солунский и святитель Василий Великий. Все не случайно.
Выражение "Мой дом – моя крепость" давно бытует в народе. И действительно, настоящий дом похож на крепость, а слово "крепость" всегда ассоциируется с грандиозным сооружением, в котором ни один противник не страшен; и знаешь, что за родными стенами есть все необходимое, чтобы отразить врага, а в случае неудачи – спрятаться в укрепленной башне родной крепости.
Что представляет собой башня, знают многие. Раньше она была нужна для дозора, т.е. была смотровой и служила местом, где наверняка можно было продержаться долгое время, откуда можно было послать почтового голубя в другой город с вестью о нападении. Знаменитая Иерихонская башня, например, имела в себе и специальные погреба для хранения запасов зерна, и так называемые цистерны для воды, что давало возможность долгое время продержаться в осаде до прихода подкрепления. Так и настоящий дом является той крепостью с замечательной башней, где всегда найдешь защиту и поддержку. Ведь, когда бы ты ни постучался в родной дом, там всегда тебя ждет любящее родное сердце, там всегда обретешь утешение, спокойствие и радость.
И каждый человек имеет такой дом. Конечно, на подобное утверждение можно и возразить. Но христианин вправе утверждать, что у него есть такой дом-крепость, это – Церковь, а башня, где можно спрятаться от врагов, – это молитва. Именно молитва к Господу для каждого из нас есть великое убежище: Господи! прибежище был еси нам в род и род (Пс. 89, 2). Все найдет праведник в имени Божием, как в крепкой башне: Иисусе, пище крепкая; Иисусе, питие неисчерпаемое (акафист Иисусу Сладчайшему, икос 10).
Христианин – воин Христов. И что бы он делал, если бы не было у него молитвы– башни? Пребывая в молитве, он может распознать нападающего на него противника. Как через смотровое окошко, смотрит праведник на приближающегося или удаляющегося врага. И уходит в глубину башни-молитвы, питаясь в случае долгой осады запасами – добродетелями. Верно сказал Иоанн Златоуст: Молитва – виновница всех добродетелей, т.к. если бы не было молитвы-башни, где бы пребывали запасы? А добродетели подаются самим Господом. Иисусе, Хлебе животный, насыти мя алчущаго; Иисусе, Источниче разума, напой мя жаждущаго. Иисусе, Одеждо веселия, одей мя тленнаго; Иисусе, Покрове радости, покрый мя недостойнаго (акафист Иисусу Сладчайшему, икос 6). Но порой бывает, что неопытный воин бросает свою крепость, выходит из башни. Знал бы он, что покинул!.. Да, действительно, бывает трудно усидеть в башне с малыми запасами, когда прибавления и поддержки совсем уже не ожидаешь. А когда надежда на помощь теряется, приходит уныние и отчаяние, кажется, что Господь не поможет, тогда начинается паника, и в безрассудных речах появляется страх, что, мол, погибаю и сдаюсь. А разве так поступает храбрый воин? Нет, он держится до последнего, до последней капли крови защищая родную крепость. Храброго никогда не оставляет надежда. Он ведет умную политику, использует любой шанс и метод для спасения и защиты. Бывает, что несколько раз приходится посылать почтового голубка с посланием: Иисусе, Спасе мой премилосердый, Иисусе, просвети мои чувства, потемненные страстьми; Иисусе, исцели мое тело, острупленное грехми. Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных; Иисусе, сохрани сердце мое от похотей лукавых. Иисусе Сыне Божий, помилуй мя (акафист Иисусу Сладчайшему, икос 11). И поднимается ввысь голубок-вестник, летит с посланием о помощи, а в душе воина одна великая вера, что долетит вопль его к Взбранному Воеводе и Господу, ада победителю, яко избавляющему от вечной смерти (цит. акафист, кондак 1). Так он надеется в сердце своем и не покидает башни, т. к., если оставит ее, грозит ему неминуемая погибель от окруживших его врагов – лютых страстей. Помнит обещания свои праведник, не покидает его душу клятва, даваемая на верность: Яко Ты, Господи, упование мое, в сердце у него слова Божии: Вышняго положил еси прибежище твое (Пс. 90, 9).
Голубок-вестник – Ангел Хранитель, данный самим Господом воину-христианину, великий молитвенник пред Престолом Божиим. Долетел, молит Господа о помощи бедному воину, пораженному стрелой страсти, чтобы пришел на помощь и исцелил кровоточивую рану. И тогда по молитвам вестника Господь посылает помощь неотчаявшемуся воину. Ангелом своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия (Пс. 90, 11-13).
Приходит помощь Божия с Ангельским воинством, и побеждается всякий враг-супостат. Вот как важно находиться в крепкой башне, в крепости имени Господня. Когда же кончится битва и одержит победу воин Христов, не оставивший крепкой башни, тогда придет и Сам Воевода вознаградить Своего воина и исполнит свое обещание о верном: Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и я возлюблю его и явлюсь ему Сам (Ин. 14, 21), …долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое (Пс. 90, 16).
Вот был один коллекционер, который любил собирать драгоценные камушки. И много у него было этих камушков – алмазов и сапфиров, граненных и не граненных, даже были у него огненные кораллы. И набралась, наконец, целая шкатулка этих камушков. Но все они были поддельные, ведь настоящие драгоценные камни стоят очень дорого.
Но однажды на аукционе продавался маленький бриллиант – совсем маленький, величиной с маленькую зеленую горошину. И вот, вдруг увидел наш коллекционер, как этот бриллиант сияет и переливается всеми цветами радуги. Вот уж, действительно, с таким камнем не могли сравниться все камушки вместе, которые лежали в шкатулке у коллекционера.
И такой страстью он возгорелся заиметь у себя этот камушек, что пошел и продал всю свою шкатулку со всеми камушками; но всё равно денег не хватило. Тогда он взял, да и продал всю свою квартиру, и всю фарфоровую посуду, и свой выходной костюм с "бабочкой", а сам попросился жить к бабушке и ходил круглый год в одном и том же свитере, – но зато купил-таки тот бесценный бриллиант.
Так вот и человек, когда узнает о том, что такое Царствие Небесное и что с ним не сравнятся никакие земные блага – ни деньги, ни работа, ни даже шоколад – презирает всё земное и стремится только на небо, ни к чему тленному не прилепляется сердцем.
Когда он почувствует хоть на мгновение ту нетленную радость, которую дарует человеку благодать Божия, – то глупыми и смешными кажутся ему все земные наслаждения, от которых потом только пустота в сердце.
И этот бриллиант, эта драгоценная жемчужина, стоит того, чтобы за нее всё отдать.
Говорят, глаза – зеркало души, и я верю в это. Когда вглядываешься в фотографии новомучеников и исповедников российских, в просвещенные, прекрасные лица членов царской семьи, в скорбный лик великой княгини Елизаветы Федоровны, то ощущаешь, как облик этих людей источает неизъяснимый свет еще неведомого нам живого сокровища. Внимательные, исполненные любви, глубины, чистоты, силы, верности глаза. Горестно, но такое чувство, что мы уже не можем так смотреть на мир и друг на друга, как смотрели они. Горестно, но мы не можем вместить в себя этот свет и нести его, как несли его они. Горестно, но этот свет лишь на мгновения сияющим огнем касается нашего сердца, отзываясь покаянной болью, стыдом, сокрушением за тот смрад, который встречает его в наших душах. Касается, и выскальзывает драгоценной жемчужиной, бесценной жемчужиной под наши ноги. Неужели мы так и будем, подобно свиньям, попирать грязными ногами бесценный жемчуг, великое сокровище вечности? Сокровище, которого так ищут, так жаждут наши больные души. Сокровище, которое должно трепетно хранить во святая святых, в глубине человеческого сердца, почему-то легко, слепо, безответственно и равнодушно теряется. А ведь оно лучезарным светилом, "которое всё более и более светлеет до полного дня", должно высвечивать стезю, тесные врата в Царствие Небесное, обогащать добротою, освящать чистотою, быть струящимся потоком живой воды для всех.
Почему мы не храним сердца? Почему мы разучились воспринимать бытие открыто, ясными, чистыми, светлыми очами? Наши глаза отражают беспокойство, скудость, оцепенение, безволие, самодовольство. Они не смотрят прямо, с любовью, надеждою. Мы хуже всех людей, потому что мы лукавы сами с собою, со своей совестью, но Отец Небесный любит нас. Он видит отрадные мгновения сокрушенных сердец. Видит и напоминает: Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что из него источники жизни (Притч.4,23). Любит и ждет, внимая молитве: Новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас!
Кондак: Душе моя, душе моя, востани, что спиши? конец приближается, и имаши смутитися: воспряни убо... (Канон Великий Андрея Критского)
Из песни 3: Душе моя (прежде конца) покайся от злых дел твоих..." (Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу).
Если грех во мне гнездо свивает,
Если страсти волю отдаю,
Если всё на свете забываю,
Лишь бы тешить чувственность мою,
Если зависти и ревности позволю
В почве сердца корни прорастить,
То они тогда и ум, и волю
Жалом смерти могут уязвить.
И душа в живом по виду теле
Станет смрадом мертвенным дышать,
Если льстивой гордости поверю,
Если злобе буду потакать.
А в стремленье моих ближних к Богу
Буду видеть ханжество, обман,
И иронии убийственной дорогу,
Чтоб заставить их смутиться, дам.
Стану души их испытывать сомненьем,
Заставляя чаще замолкать,
Чтобы лишь моим одним сужденьям
В наших поединках побеждать.
Но упившись этой властью многой
И своею мудростью слепой,
Обнаружу вдруг, что перед Богом,
Перед совестью моею я нагой.
Сколько ни считай мои заслуги,
Смерть уже господствует во мне.
Прозревая будущие муки
И теперь уже я как в огне.
Как ни отгоняй сомненья эти,
Груз их давит, мучает и жжет.
Что же будет, когда ангел смерти
Мою душу к Богу призовет?
Чем тогда перед Его любовью
Оправдаю ненависть свою
К тем словам, что с милосердной болью
Обличали суетность мою?
Чем забвенье может быть покрыто
Перед теми, кто совета ждал,
Перед теми, кто просил защиты,
Кто на мою верность уповал?
Близок, близок страшный час расплаты.
Сокрушись, душа моя, проснись!
И от сласти грешных дел заклятых
Отвратись, покайся, поднимись.
И в стыде, в позоре покаянья
Да сгорят и мысли, и дела,
Те, что и нарочно, и случайно
Ты, душа, на свет произвела.
И тогда, когда остынет тело,
Смерть не будет властна над тобой.
Только почему же это сделать
Мне так трудно? Отчего же мой
Голос внутренний меня толкает
Тешить самолюбие мое?
Чем же тленный мир меня прельщает?
Ненавидя смерть, – люблю ее.
И тогда мне Иов отвечает
Сквозь века, услышав мой призыв:
"Потому что веры не хватает,
Ты забыл, что Искупитель жив!
Час придет, и Он восставит кожу,
Даже превратившуюся в прах.
И во плоти перед очи Божьи
Мы предстанем явно, не во снах.
Будет Страшный Суд, не сомневайся.
Меч наточен, будет плач и крик..."
Бедная душа моя, покайся,
Отвратись от грешных дел своих!
Дыхание весны пробуждает землю, а опыт встречи – человеческую душу. Разные бывают встречи: может быть, человек увидел дивное сияние благодати на лице ближнего, а может быть, сам прикоснулся к святыне. И вот душа уверовала, возлюбила, возжелала жить по заповедям Божиим в лоне Церкви. И чтобы помочь человеку в деле спасения, Церковь учит его, помогает возлюбить Господа не только всем сердцем, но и разумением. История помнит времена, когда миновала эпоха язычества, и шли под церковную сень услышать слово жизни люди, их было много, и жажду их утолял проповедник, кладезь мудрости духовной и словесной. Язычество наших дней также нуждается в лекаре – проповеднике, требует учителя.
Несомненно, дар слова – дар Божий. И обладатель сего сокровища имеет задачу: превратить его в полноводные, кристально-чистые реки словесной мудрости. Люди, отмеченные даром словесности, блиставшие красноречием, утверждали, что красноречие – нечто такое, что дается труднее, чем это кажется. Оно рождается из многих знаний и умений (Цицерон). А может быть, и лишений... Самый замечательный оратор древней Греции, Демосфен, ощутив, что речь его слаба, а смысл ее темен, опускается в подземелье для отработки языковых приемов и укрепления голоса, а чтобы не прерывать занятий – бреет голову наполовину. Столь супермодная прическа нашего времени в IV в. до н.э. означала лишь невозможность показываться на людях. Пока рос волос, рос и голос, набирало силу и ораторское мастерство. Да, труд – необходимое условие для роста, но важно четко представлять, над чем именно следует трудиться.
Говорит учитель быстро – дети не успевают не только записать, но и понять. О таком народная мудрость говорит: За твоим языком не поспеешь босиком. А если речь говорящего замедлена, то она вызывает скуку, раздражение, иногда и крепкий сон. И на этот счет есть народная пословица: У него слово слову костыль подает. Значит, важно правильно выбрать темп речи. Опытные проповедники считают, что лучше всего произносить примерно 100–120 слов в минуту. При этом важные мысли желательно высказывать в замедленном темпе, а второстепенную информацию – в ускоренном. Чтобы понять этот прием, полезно присмотреться к творчеству певца, дирижера-регента. Вот он мелкие длительности исполнил чуть быстрее, пробежал по ним, как дуновение ветерка: легко, свободно, с тем, чтобы полно отзвучали крупные длительности или основной фрагмент музыкальной фразы. А вот и последний жест регента: он не спешит опускать рук, слушает стройный аккорд, парящий в куполе храма или зала, и лишь потом дает возможность звуку гаснуть медленно и спокойно, подобно тому, как гаснет свет в зале театра.
Конец – делу венец. Это правило хорошо и для проповедника. Беда, что ты голоден, но все же не проглатывай концы слов и фраз, – заметка законоучителю нашего времени. Оратор, следящий за своей дикцией, избежит этих ошибок. А помогают в работе над ней скороговорки. С их помощью добиваются чистоты и точности произношения. Часто отчетливость зависит и от пространства: чем больше помещение, тем желательнее замедление речи. Ведь звук распространяется не так быстро, как свет. Поэтому, чтобы резонанс стал помощником проповеднику, чтобы звуковые волны не сливались и не заглушали друг друга, нужно дать им время для распространения. Может быть, поэтому некоторые священники произносят проповеди медленно? Хорошая дикция и паузу держит хорошо.
Пауза – тоже музыка, здесь можно обдумать мысль, облегчить дыхание. Однако если некий политический деятель очень часто прерывает речь, дополняя ее нечленораздельными звуками типа "э-э-э" или "о-о-о", то это тоже напоминает нам движение человека на костылях или ходулях, т.е. идущего не своими ногами. Очевидно, что такие звуки обнаруживают либо незнание предмета, либо сильное волнение, возникающее в незнакомой обстановке, либо просто лень, нежелание трудиться над своим словом.
В искусстве красноречия важна и сила голоса: тихий слышат лишь "близкие" слушатели, а громкий и резкий – вызывает раздражение и неприятие сказанного. Иногда звучность голоса зависит и от умения правильно оценить его возможности, его вокальные данные. Забавный случай был в лекторской практике О. Ю. Шмидта. Читая лекцию, услышал шумок. "Что, неинтересно?" – спросил он. "Нет, интересно, но плохо слышно". Оказывается, Отто Юльевич обращался с вопросом к вокалисту, который так подытожил их разговор: "Вы поете басом, а говорить пытаетесь тенором". Итак, оратор, знающий и любящий предмет своего слова, прилагающий усилие к тому, чтобы правильно использовать возможности своего слова, следящий за темпом речи и внимательный к дикции, может сделать свою речь живой и выразительной. О таких умельцах тоже есть народная пословица: Говорит – что клеит.
Проявить чуткое отношение к содержанию речи, добиться ее выразительности помогают также мимика, жесты, поза, а в работе над ними не грех воспользоваться и зеркалом. Относясь к нему не как к предмету, услаждающему наше самолюбие и тщеславие, но как к вспомогательному средству, беспристрастно отражающему наши недостатки, можно научиться избегать резких жестов, уродливой мимики. Тогда можно надеяться, что мы не услышим нареканий типа: Не надобно проповеднику шататься вельми, будто в судне веслом гребет. Не надобно руками всплескивать, в боки упираться, подскакивать, смеяться, да не надобе и рыдать (Петр I, Духовный регламент 1721 г.).
В течение всего года, а может быть, и жизни, население города в бегах и суете находится, и усталое, и озабоченное. Приходит весна, и ты – частичка этого люда, все бежишь, суетой поглощенный, и вдруг случайно поднимаешь глаза, а перед тобой яблонька, та весенняя яблонька, укутанная в море маленьких бело-розовых цветочков. Такая красота – глаз не отведешь! И вот городской беглец, то гордый и самовлюбленный, то презрительный и жестокий, то усталый и равнодушный, вдруг останавливается перед этим чудом, будто по мановению волшебной палочки, и глаза его добреют, в них появляется что-то от детскости, от первозданной чистоты. Чтобы понять, какая связь между двумя явлениями: мастерством проповедника и тихой нарядностью деревца, нужно мысленно перенестись в аудиторию, где ждет тебя маленькая жизнерадостная детвора воскресной школы или взрослые с уставшими лицами и сердцами. Дабы не омрачить жизненный праздник одних и не усугубить мрачное настроение других, появись с кроткой приветливой улыбкой сестры во Христе: для малышей – старшей, для взрослых – младшей. Пусть не только речь твоя будет изящной, но и все твое существо. Чуть праздничный наряд, грациозная походка, легкость движений подскажут вашим слушателям, что вы к ним неравнодушны, вы идете к ним, как на праздник, желая общения, участия и помощи им. Они ответят вам: кто вниманием к вашему предмету, кто простым человеческим: "Спаси тебя, Господь".
Итак, размышляя над портретом учителя, мы нанесли и последний штрих – внешность. Но портрет навсегда останется мертвым и не принесет плода, если все достоинства проповедника, учителя, воспитателя не облечены в порфиру любви к Господу и ближним. Святой Феофан Затворник говорил, наставляя воспитателей: "Старайся любовию заслужить любовь".
Но наш учитель – не просто учитель, он наставник в деле спасения человеческой души. Уча слову Божию, он сам должен стремиться к стяжанию Святого Духа, тогда слово будет не просто красивым и верным, оно будет обладать жизненной силой, как слово мучеников и апостолов. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией (1 Кор. 2, 4-5).
/Примечания/
1. Дискурсивный (позднелат. discursivus, от discursus рассуждение, довод, аргумент) – рассудочный, понятийный, логический, опосредствованный (в отличие от чувственного, созерцательного, интуитивного, непосредственного).
2. Симфония является алфавитным указателем всех слов, встречающихся в Библии. Для каждого слова симфония позволяет найти все места Писания, где оно встречается, а также определить точное значение слова из языка оригинала. Симфония предназначена для помощи читателю найти ссылки в Библии (книги, главы и стихи), для определения значения непонятных слов, а также для тематического изучения Библии. Также симфония может являть собой книгу, в которой собраны отрывки из многих писаний какого-либо автора на одну определенную тему.
3. Батюшка ссылается на слова апостола Павла из Послания к Филиппийцам: Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божиего во Христе Иисусе (3, 12-14).
4. См.: Лев. 20, 26; Пс. 5, 5.
5. Грибоедов А.С. "Горе от ума"
6. Первое послание к Коринфянам. Глава 3. Стихи 10-15:
10 Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на
нем; но каждый смотри, как строит.
11 Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
12 Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, —
13 каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
14 У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.
15 А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня.
7. Есть и такие образы в Псалтири: поставил еси на пространне нозе мои,– т.е. на пространном месте, на широком участке суши (Пс. 30, 9); или: постави еси на камени нозе мои (Пс. 39, 3).
8. Силуан Афонский (в миру Семен Иванович Антомнов; 1866–1938) – монах Константинопольского патриархата русского происхождения, подвизался на Афоне, куда приехал в 1882 г. Канонизирован в 1988 г. Почитается в Православной Церкви как святой в лике преподобных, память совершается 11 сентября (по юлианскому календарю).
9. Канон Пресвятой Богородице, Песнь 1, Ирмос 1.
10. Квинт Септиммий Флоремнс Тертуллиамн (155 или 165–220 или 240) – один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей и теологов. В зарождавшейся теологии Тертуллиан впервые выразил концепцию Троицы. Положил начало латинской патристике и церковной латыни – языку средневековой западной мысли.
11. Долгое время термин "дидактика" употреблялся в том же значении, что и "педагогика" вообще. Чешский педагог Я.А.Коменский определил дидактику как "всеобщее искусство учить всех всему". В настоящее время дидактика рассматривается как часть педагогики, исследующая проблемы обучения и образования, их принципы, цели, содержание, средства, результаты.
12. Ср.: ...но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. (1 Кор., 9, 27)
13. Сергей Александрович Нилус (1862–1929) – российский религиозный писатель и общественный деятель, известен как публикатор "Протоколов сионских мудрецов".
14. Лермонтов М.Ю. "Смерть поэта"
15. Рим., 8. 22:
21 что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.
22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне;
23 и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего.
16. Тютчев Ф. И. "Нам не дано предугадать"
17. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Иисус Христос мог сокрушить иудеев, как надломленную трость, и угасить их гнев, как курящийся или горящий лен, но не хотел этого делать, пока не исполнит домостроительства и не победит их во всем (из толкования архиепископа Феофилакта Болгарского на указанный стих из Евангелия от Матфея).
18. "Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился…" – говорит Родион Раскольников Соне.
19. Пс. 103. 25: Сие море великое и пространное: тамо гади, ихже несть числа, животная малая с великими…
20. Первое послание Петра. Глава 3. Стих 15
Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.
21. Послание к Ефесянам. Глава 4. Стих 5
один Господь, одна вера, одно крещение,
22. Мф. 7, 6: Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.
23. 1 Кор. 1, 20:
Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?
24. 2 Тим. 4, 3-4:
3 Будет бо время, егда здраваго учения не послушают, но по своих похотех изберут себе учители, чешеми слухом:
4 и от истины слух отвратят, и к баснем уклонятся.
25. Еф. 2, 2:
в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,
Еф. 5. 6:
Колос. 3. 6:
Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления; за которые гнев Божий грядет на сынов противления…
26. Евр. 12, 6: Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.
27. 1 Фес. 5, 14:
Молим же вы, братие, вразумляйте безчинныя, утешайте малодушныя, заступайте немощныя, долготерпите ко всем.
28. Листра – город в Ликаонии, древней стране в Малой Азии, к югу от центральной пустыни, на территории современной Турции. Город трижды посещался апостолом Павлом.
29. Литературный персонаж из повести Н.В. Гоголя "Ночь перед Рождеством", входящей в цикл "Вечера на хуторе близ Диканьки". Солоха – мать Вакулы, ведьма. К ней с откровенными заигрываниями приходили и сельский голова, и дьяк, и Чуб – отец Оксаны, и сам черт.
30. М.Ю. Лермонтов. "Смерть поэта".
31. Лк., 17,10
32. Инвектива (от лат. invectivus – бранный, ругательный) (книжн.) – гневное выступление против чего-нибудь или кого-нибудь, оскорбительное выражение, брань, выпад. А также форма литературного произведения, одна из форм памфлета, осмеивающего или обличающего реальное явление, лицо или группу.
33. Архимандрит Киприан (в миру Константин Эдуардович Керн; 1899, Тула –1960, Париж) – православный священнослужитель (в юрисдикции Русской православной церкви за границей, затем Константинопольского патриархата), богослов, церковный историк.
34. Проценко Павел Григорьевич, составитель и комментатор трудов епископа Варнавы (Беляева; 1887-1963), в частности "Основ искусства святости" в пяти томах (1995-2001). Автор книги-биографии еп. Варнавы "В Небесный Иерусалим: История одного побега", повести "Цветочница Марфа" (о судьбе русской крестьянки, погибшей в сталинском концлагере) и других. Составитель сборника "Мироносицы в эпоху ГУЛАГа" (2005).
35. До 1997 г. Академия носила имя Дзержинского.
36. Крупная безногая ящерица, похожая на змею; безвредная для человека.
37. Стих из Великого покаянного канона прп. Андрея Критского. Песнь 1. (В понедельник первой седмицы Великого поста.)
38. Чернобыль, или чернобыльник – трава, разновидность полыни. Название города Чернобыль, где произошла страшная катастрофа на АЭС, происходит от названия травы чернобыльник.
39. Мф. 20, 6:
Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно?
40. Мф. 3, 8: сотворите же достойный плод покаяния.
41. Мф.7, 2:
ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
42. Сатира как литературный жанр возникла в древней римской литературе. Это поэтическое произведение, в котором более или менее резко осуждаются и негодующее изображаются свойства и качества отдельных типических лиц или более или менее обширной группы лиц и явлений.
43. Памфлемт (от англ. pamphlet) – разновидность литературного или публицистического произведения, обычно направленного против политического строя в целом или его отдельных сторон, против той или иной общественной группы, партии, правительства и т. п., зачастую через разоблачение отдельных их представителей.
44. Пасквиль (от нем. Pasquill, из итал. pasquillo) – сочинение, содержащее карикатурные искажения, клевету и злобные нападки, цель которых оскорбить и скомпрометировать какое-либо лицо, группу, партию и т. п. Пишется в публицистической или беллетристической форме, близкой памфлету.
45. Манкурт – это военнопленный, которому сбривали волосы и надевали на голову кусок шкуры с шеи только что убитого верблюда. Шкура высыхала на солнце, причиняя бедняге жуткие страдания, и он или погибал, или терял память, и его делали рабом. Чингиз Айтматов в своем романе "И дольше века длится день" популяризировал тюркскую легенду о манкурте – о том, как человека превращают в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни. В переносном смысле слово "манкурт" употребляется для обозначения человека, потерявшего связь со своими корнями, бездушное рабское создание. Манкурт – это также и ребенок какой-то национальности, выращенный и воспитанный с рождения среди другого народа, на его языке, культуре, национальных и духовных традициях, отождествляющий себя с этим народом, не знающий родного языка, а только язык народа, среди которого он вырос.
46. Использование цитат и образов из широко известных литературных произведений является одним из важных приемов устного выступления. В том числе применяется перифразирование или вольный пересказ цитат, в данном случае из "Евгения Онегина" А.С. Пушкина (разговора Татьяны Лариной с няней):
"Не спится, няня: здесь так душно!
Открой окно да сядь ко мне".
– Что, Таня, что с тобой? – "Мне скучно,
Поговорим о старине".
А также:
"Ах, няня, няня, я тоскую,
Мне тошно, милая моя:
Я плакать, я рыдать готова!.."
– Дитя мое, ты нездорова;
Господь помилуй и спаси!
Чего ты хочешь, попроси...
Дай окроплю святой водою,
Ты вся горишь... – "Я не больна,
Я... знаешь, няня... влюблена".
Дитя мое, Господь с тобою! –
И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой.
47. Пример возможного вольного пересказа лектором. Для сравнения – цитата из сказки А. Гайдара: "А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей реки. И поставили над могилой большой красный флаг. Плывут пароходы – привет Мальчишу! Пролетают летчики – привет Мальчишу! Пробегают паровозы – привет Мальчишу! А пройдут пионеры – салют Мальчишу!"
48. Герой из поэмы Некрасова "Кому на Руси жить хорошо" – "народный заступник". О нем рассказывается в последней части поэмы "Пир на весь мир".
49. Название фильма американского режиссера Стэнли Креймера.
50.Слова из песни "Три вальса", исполнявшейся известной советской певицей Клавдией Шульженко.
51. Интенция (лат. intentio – намерение, замысел) – коммуникативное намерение говорящего. А также цель и направленность сознания, воли, чувства на какой-либо предмет. Термин интенция ввели в современную лингвистику последователи Дж. Остина, одного из создателей теории речевых актов.
52. Авраамий, в миру Аверкий Иванович Палицын († 13 сентября 1625, Соловецкий монастырь) – известный деятель Смутного времени, знаменитый писатель и историк, автор повести об осаде Троицкого монастыря поляками.
53. Ниже приводится текст, который был предложен лектором студентам в качестве образца работы над словом.
54. Крюкова Л.И. была заместителем заведующего кафедрой гомилетики Свято-Тихоновского богословского института. Безвременно ушла из жизни в 2000 году.
55. Здесь и далее выделения сделаны лектором – Ред.
56. Периодизация дана по статье: Попова Т. В. Византийская эпистолография. // Византийская литература. / Под ред. С. С. Аверинцева М.: Наука, 1974.
57. Ювенал Децим Юний (ок. 60 – ок. 127), римский поэт-сатирик.
58. Так у автора письма.
59. Таких слов нет в Евангелии.
60. Т.е. предлагает прочитать его письмо по радио.
61. Композиция (от лат. compositio – составление, связывание) – построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением и во многом определяющее его восприятие.
62. Градация (от др.-греч. κλιμαξ — "приставная лестница") – фигура речи, состоящая в таком расположении частей высказывания, относящихся к одному предмету, что каждая последующая часть оказывается более насыщенной, более выразительной или впечатляющей, чем предыдущая.
Издание:
Владимиров Артемий прот. Владимиров Артемий прот. Искусство речи. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2011.
Текст в данном оформлении из Библиотеки христианской психологии и антропологии.
Последнее обновление файла: 01.03.2016.