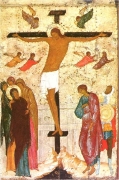

ЦЕНТР
ХРИСТИАНСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ И
АНТРОПОЛОГИИ
Санкт-Петербург
"мы проповедуем
Христа распятого,
для Иудеев соблазн,
а для Еллинов безумие..."
(1 Кор. 1, 23)
ПСИХОЛОГИЯ И
АНТРОПОЛОГИЯ
В ЛИЦАХ

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
|
Поиск по сайту |
|
|
Прот. Евгений Левченко
Среди множества проблем, возникших в связи с изменением социально-экономического уклада жизни в нашей стране, особо выделяется проблема развития самосознания молодежи. Период утраты традиций и формирования новых идеалов сопровождается болезненным ощущением пустоты и несет в себе как возможность позитивных, так и негативных трансформаций самосознания молодых людей. В этих условиях особенно важно обратиться к системе психологических воззрений, основанных на духовной традиции святоотеческого постижения внутренней жизни человека, почти неизвестной современной научной психологии. В последние полтора десятилетия появилось множество публикаций, приобщающих к доселе игнорируемому богатству святоотеческого наследия. Православное учение о человеке привлекает все больший интерес. Никем уже не оспаривается то, что это учение раскрывает многие стороны внутренней жизни человека, совершенно неизвестные современной психологии – причем не только ее естественно-научной (объяснительной, редукционистской) ипостаси, но гуманитарному, описательному подходу. Причем аналогичная ситуация не только в психологии, но и во всей современной науке в целом. Так, В. Н. Катасонов пишет: «Современная наука в своих фундаментальных проблемах касается вопросов, для осмысления которых оказываются уже недостаточными традиционные символические и дискурсивно-логические методы познания. Вопрос о целостном познании, о целостном разуме естественно связывает сегодняшнюю фундаментальную науку с традициями вненаучного, и прежде всего, религиозного познания» [3]. Проблема рефлексии, прояснения глубинных вненаучных оснований современной науки ставится все более остро. В. С. Степин подчеркивает: «Возникает необходимость экспликации связей фундаментальных внутринаучных ценностей (поиск истины, рост знаний) с вненаучными ценностями... Постнеклассический тип научной рациональности расширяет поле рефлексии над деятельностью. Он учитывает соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ее ценностно-целевыми структурами. При этом эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными ценностями и целями» [6]. Именно христианство содержит в себе возможности выведения науки и, в частности, психологии из глубокого кризиса. В то же время остается особой проблемой корректное введение в научный арсенал богословских и аскетических понятий. В. И. Слободчиков совершенно справедливо отмечает: «Сегодня понятия и представления традиционной психологии о человеке (в особенности зарубежных психологических учений), о его развитии столь сильно инкорпорированы, растворены в других гуманитарных науках: в педагогике, медицине, политике, а сегодня даже и в вероучительных текстах, что никаким указом, никаким простым переводом эти представления не отменить. Их можно только постепенно и постоянно преобразовывать. Необходимо новое психологическое прочтение богословских понятий о душе и новое христианское прочтение психологических понятий. Это работа совместная – богословско-психологическая... Нужен умный, терпеливый и доброжелательный союз научной психологии и православного богословия...» [5, с. 14]. Диалог, ведущий к такому союзу, начат и плодотворно продолжается. В журналах «Вопросы психологии», «Человек» были опубликованы материалы Круглых столов с участием психологов и богословов. В 2001 году Синодальной Богословской Комиссией Русской Православной Церкви была организована и проведена конференция «Учение Церкви о человеке». «Московский Психотерапевтический журнал» уже несколько лет издает специальный выпуск по христианской психологии. Опубликовано несколько монографий, защищен ряд диссертаций. Во многих светских и богословских учебных заведениях преподаются курсы «Православной психологии». Однако проблема научного освоения святоотеческого наследия не только остается актуальной, но и становится все более острой. Курсы «Истории психологии» до сих пор не рассматривают труды древних восточно-христианских святых отцов, – даже в разделе «Донаучный период». Нам представляется, что для приближения к решению этой проблемы следует рассмотреть труды автора, максимально приближенного к нам и по времени, и по культуре, соединяющего в себе и ученого, и богослова. Исследователь трудов святителя Г. В. Ширяев пишет: «К выдающимся антропологам можно отнести многих святых отцов: Антония Великого, Макария Египетского, Максима Исповедника, Исаака Сирина, Григория Паламу, в России – Тихона Задонского, Игнатия Брянчанинова и многих других, – но святитель Феофан Затворник Вышенский (10.01.1815 – 06.01.1894) занимает среди них особое место. Феофан Затворник не просто учёный богослов и иерарх Русской Православной Церкви XIX века, он сочетал ученость с исповедничеством, знание – со святостью, затвор – с активным влиянием на духовную жизнь современников. Богословское наследие святителя-затворника пронизано мыслью о домостроительстве нашего спасения. Богословствование святителя не чуждалось психологии, философии и всегда имело прикладной характер. Лучшего пособия для самоосознания себя как христианина трудно себе представить и в настоящее время» [12]. Д. В. Новиков писал: «Сейчас широко обсуждается необходимость и возможность христианской психологии. Для нас вопрос об этом в значительной мере представляется риторическим. Еще в конце XIX века, на заре становления психологии как самостоятельной науки, старший современник В. Вундта свт. Феофан Затворник не только говорил о необходимости христианской психологии, но и пытался своими трудами положить ее основание. Если пути развития психологии в XX веке и остались в стороне от православной традиции, – это по существу, мало что меняет. Христианский психолог – это психолог, который в состоянии соотнести свои профессиональные представления с той мировоззренческой картиной, которая живет в церковном сознании» [4]. В 1988 году на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, посвященном 1000-летию Крещения Руси, Феофан Затворник был причислен к лику святых. В решении Собора отмечалось: «Глубокое богословское понимание христианского учения, а также опытное его исполнение, и как следствие сего, высота и святость жизни святителя позволяют смотреть на его писания как на развитие святоотеческого учения с сохранением той же православной чистоты и богопросвещенности» [2]. Сам святитель много думал о необходимости христианской психологии; к концу жизни он писал: «Вот, по-моему, какова должна быть программа этой (христианской) психологии. Изобразить состав естества человеческого: дух, душа и тело – и представить систематический перечень всех способностей и отправлений каждой части, – и затем описать состояние частей и естества и способностей: 1) в естественном состоянии, 2) в состоянии под грехом, и 3) в состоянии под благодатию». Эти слова могут быть восприняты нами как научное завещание. При этом вполне правомерен вопрос: «Допустимо ли научными средствами рассматривать представления о бессмертной душе, жизнь духа, воздействие Божией благодати и т.п.?» [9]. На этот вопрос со всей присущей ему корректностью ответил Ф. Е. Василюк, который пишет в своей книге «Переживание и молитва: опыт общепсихологического исследования»: «В пределах этого исследования мы будем смотреть на молитву «снизу», то есть намеренно отвлекаться от мистической, аскетической и догматической стороны вопроса, ограничиваясь лишь научно-психологическим подходом. Это ограничение, однако не означает психологической редукции, попытки свести действие молитвы к одним лишь естественным психологическим закономерностям. Тем не менее, необходимо попытаться исчерпать, насколько возможно, чисто психологические влияния молитвы на состояние человека. Эта задача и соответствует требованию научной добросовестности, и не оскорбляет религиозного чувства» [1]. Действительно, вненаучные категории могут и должны оставаться за пределами науки, но результаты психологического воздействия тех реальностей, которые они обозначают, вполне рассматриваемы научными методами. Свт. Феофан не только предложил план христианской психологии в теоретическом аспекте, но указал и сферу ее применения. В предисловии к своему итоговому труду «Начертание христианского нравоучения» он писал: «Христианская вера учит с одной стороны тому, что Бог сделал для спасения человека, с другой тому, что должен делать сам человек, чтоб улучить спасение. Последнее составляет предмет христианского нравоучения… Самым пригодным пособием для начертания нравоучения христианского могла бы служить христианская Психология» [12]. Первое объемлется разделом богословия сотериологией, к решению второго – «что должен делать сам человек, чтоб улучить спасение» – призвана православная психология в ее практическом аспекте. При этом следует оговорить, что православная психология – это отнюдь не внутриконфессиональная дисциплина, не какая-то специфическая «наука для верующих». Человек может верить или не верить в Бога, стремиться к вечной жизни или не думать об этом, соблюдать евангельские заповеди или игнорировать их, – в любом случае разные стороны его внутреннего мира могут быть рассматриваемы в соответствии с теми критериями, которые предлагает православное учение, а значит, являются объектами православной психологии. В трудах святителя Феофана описаны самые разнообразные тончайшие детали устроения внутреннего мира человека в разных его состояниях, но на наш взгляд особое место в его трудах и особую значимость для нашего времени занимает его учение о самосознании. И. И. Чеснокова отмечает: «Исследование самосознания в качестве психического процесса не делает его рядоположным с другими психическими процессами – восприятием, мышлением памятью и другими, хотя оно может существовать только на их основе и проявляться через них. Психологический "механизм" самосознания имеет интегративную природу. В каждый акт самосознания вовлекаются не только отдельные психические процессы в различной их комбинации, но также и вся личность в целом – система ее психологических свойств, особенности мотивации, приобретенный опыт на разных уровнях обобщения, наконец, эмоциональное состояние личности в данный момент» [11]. Именно эти свойства делает самосознание центральным в структуре личности. Вопрос о становлении адекватного самосознания всегда был важен, но особую актуальность он приобретает в периоды «безвременья», один из которых мы ныне проживаем. «Погасите самосознание и свободу, – писал святитель Феофан Затворник, – вы погасите дух, и человек стал не человек» [10]. Главным назначением самосознания святитель считал то, что оно дает возможность человеку «различать себя от своих действий... свое бытие от того, что исходит из него... возносясь над тем и другим» [7]. Это позволяет собирать воедино все внутренние – душевные и духовные – силы, которые «исходя из нашего сознания или лица (я) и в него возвращаясь, должны пребывать во взаимной связи и согласии между собою, под управлением своего источного начала» [7]. Однако такое, достойное и ответственное состояние возможно только у такого человека, который пробужден Божией благодатью и живет духовной жизнью. «О человеке, до восприятия им благого намерения жить свято, по-христиански, о человеке, работающем греху и страстям, несомненно известно, что он не возвышается над внешним миром, а напротив, увлекается им, живет в нем, как бы сорастворяется с ним... Благосостояние внешних вещей своих он считает благосостоянием собственного лица, и напротив, неблагосостояние их своим несчастием... Не возвышается он также и над внутренним своим миром, но так же, как внешними вещами, увлекается и механизмом внутренних своих движений... Это явление очень странно: в гордости он никого не считает выше себя, а между тем сам себя слабо сознает... У него нет достаточного знания собственных своих действий... нет знания себя... нет и различения себя от своих действий. Это опаснейшее из обольщений лица грешного. Все, что возникает внутри, считает он собственно собою и стоит за то, как за себя, как за свою жизнь» [7]. Чтобы выйти из этого состояния, необходимо покаяние. «Человеку, находящемуся в таком состоянии, самому очувствоваться нельзя, пока в его греховной тьме не воссияет свет Божественной благодати... Сам Господь стоит «при дверех сердца и толчет» как бы говоря: «востани, спяй, и воскресни от мертвых». Сей голос Божий – зовущий – приходит к грешнику,... падает на совесть, пробуждает ее и, наподобие молнии, освещает (ясно представляет сознанию) все законные отношения человека, которые им были нарушены и извращены... В притче о блудном сыне сие состояние выражено словами: «в себе пришед» [7]. «Благодатное возбуждение не завершает дела обращения грешника, а только зачинает, и после него предлежит труд над собою, и труд очень сложный. Все, впрочем, относящееся сюда совершается в двух поворотах свободы: сначала в движении к себе, а потом от себя к Богу. В первом человек возвращает себе потерянную над собою власть, а во втором себя приносит в жертву Богу – жертву всесожжения свободы. В первом доходит он до решимости оставить грех, а во втором, приближаясь к Богу, дает обет принадлежать Ему Единому во все дни жизни своей» [8]. Таким образом у человека формируется особого рода самосознание – самосознание христианина. «В чувстве исцеления и свободы, – он должен сознавать себя Христовым рабом, работать и трудиться как бы от Его лица, пред Ним и ради Его, до того, чтоб с Апостолом говорить: «живу не ктому аз, но живет во мне Христос»... С погашением сего сознания его действия если и не становятся худыми, то теряют в большей или меньшей мере характер христианских и поступают в разряд дел обще-нравственных. Между тем христианин есть лицо не обще-нравственное только, а нравственное по-христиански» [7]. Важное место в структуре самосознания христианина занимает самооценка. «Он считает себя тварью самой ничтожнейшей, достойной всякого презрения и унижения; приписывая себе одни грехи, всё доброе он относит к источнику всякого добра – Богу; он не усвояет себе никаких преимуществ перед другими, а всякого считает высшим себя» [7]. Именно такое отношение к себе позволяет формировать и удерживать адекватное самосознание. «Взор внутрь себя... у него так глубок, что он не только вообще неправые движения видит, но и между ними различает свои от несвоих... Знает, что он значит сам, что его ожидает, в каком он состоянии, в каких отношениях к другим... Из всех сих свойств слагается тот внутренний свет, который приписывается истинным христианам и по которому вся их жизнь называется хождением во свете» [7]. Учение святителя Феофана Затворника о самосознании позволяет по-новому увидеть многие проблемы внутренней жизни человека и найти подходы к их разрешению, принципиально отличные от тех, которые предлагает традиционная светская психология.
Список литературы
1. Василюк Ф.Е. Переживание и молитва: опыт общепсихологического исследования. – М., 2006. 2. Канонизация святых. Поместный Собор Русской Православной Церкви, посвященный юбилею 1000-летия Крещения Руси. – Троице-Сергиева Лавра, 1988. 3. Катасонов В. Н. Границы науки и идеал целостного разума в русской религиозной философии. [Электронный ресурс]. URL: https://katasonov-vn.narod.ru/graniz.html (дата обращения: 30.06.2007). 4. Новиков Д. В. Учение о личности в христианском богословии IV-VIII веков // Человек. 2000. № 2-3. 5. Слободчиков В. И. Христианская психология – ее возможность и действительность // Шеховцова Л. Ф., Зенько Ю. М. Элементы православной психологии. СПб., 2005. С. 6-15 (Предисловие). 6. Стёпин В.С. Теоретическое знание. – М., 1999. 7. Святитель Феофан Затворник. Начертание христианского нравоучения. – М., 1994. 8. Святитель Феофан Затворник. Путь ко спасению (Краткий очерк аскетики). – М., 1994. 9. Святитель Феофан Затворник. Собрание писем. Вып.7. - М.,1995 10. Святитель Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. – М., 2007. 11. Чеснокова И. И. Проблема самосознания в психологии. – М., 1977. 12. Ширяев Г. В. Антропология святителя Феофана Затворника Вышенского // Русское самосознание. 2002. № 9.
Издание: Левченко Евгений, прот. Значение учения святителя Феофана Затворника для развития представлений о самосознании // Социокультурные проблемы современной молодежи: материалы II Международной научно-практической конференции / Под ред. О.А. Шамшиковой, Н.Я. Большуновой. Ч. 2. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2007. С. 435-439.
Текст в данном оформлении на сайте xpa-spb.ru по персональному разрешению автора!
Последнее обновление файла: 01.04.2025.
|
|
адресом этой страницы |
| СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ |
(код баннера)
| Hits | Pages | Visits |
|---|---|---|
| 7550 | 4715 | 1533 |